
Общие сведения о роде
Воротынские — княжеский род 15–17 веков. Происходят из черниговских Рюриковичей, в традиционной историографии потомки киевского и черниговского князя Михаила Всеволодовича. Родоначальник Воротынских — Лев Романович (? — до 1422 или 1424), 2‑й сын новосильско-одоевского князя Романа Семёновича.
Историческая география
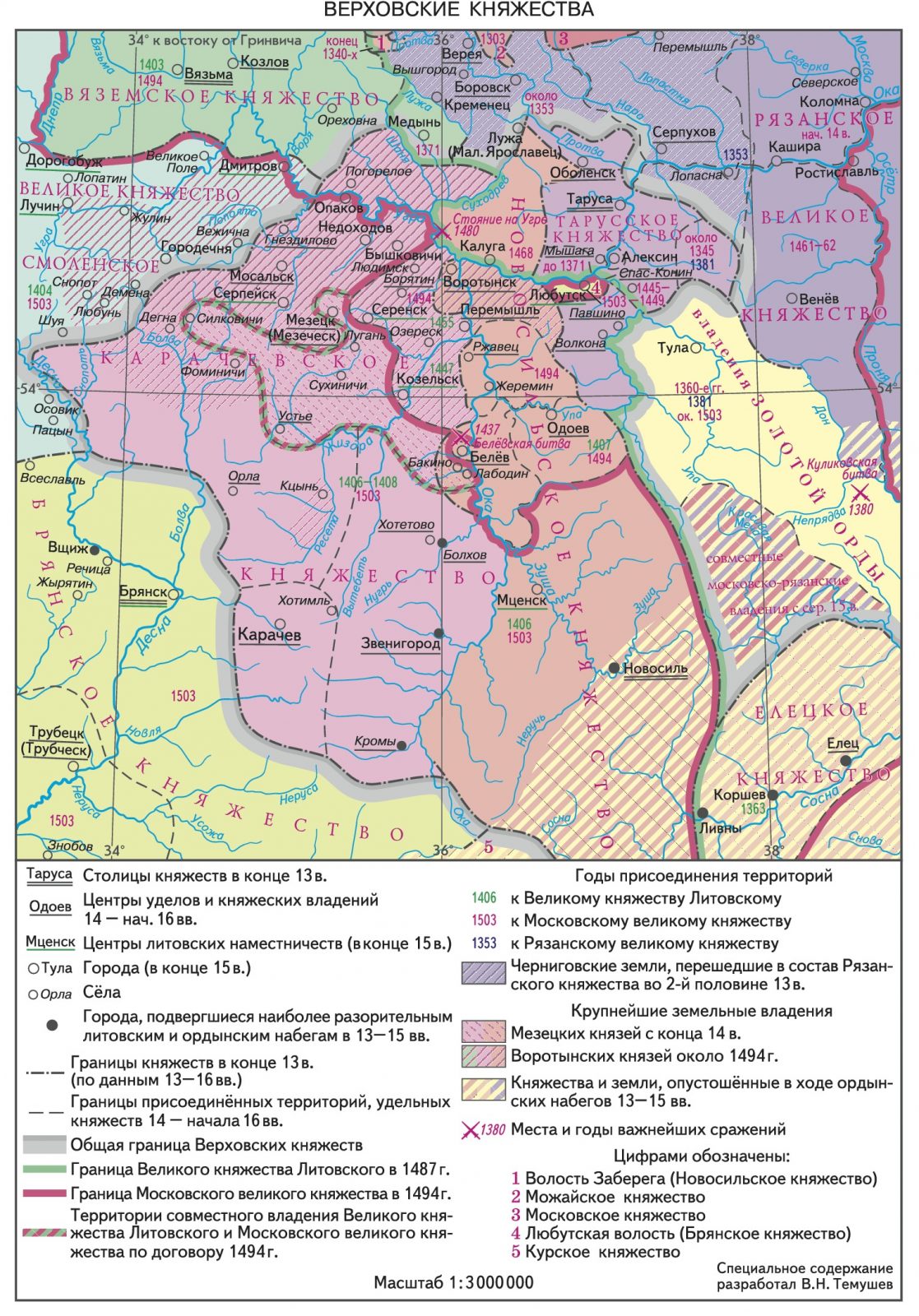
Синодики
Синодик Успенского собора
«Княгине Марьи княж Федорове Юрьевича Воротынскаго и сыну ее князю Михаилу».
ДРВ. Ч. 6. С. 45
Синодик Кирилло-Белозерского монастыря конца XV – первой четверти XVI в.
Род Воротынских: «Князя Михаила, князя Романа, князя Георгия, князя Ионы, князя Ионы, князя Федора, князя Михаила, князя Михаила, князя Лва, князя Федора, князя Федора, князя Симеона, князя Киприана, князя Евмениа, князя Тихона, князя Логгина, князя Димитрея, князя Евдокима, княгиню Ефросинию».
РГАДА. Ф. 181. Ед. хр. 539. Л. 79.
Синодик Киево-Печерской лавры
Рід княгині Феодосії Буйницької (с. 10): «Князя Корнилія, князя Андрія, князя Юрія, княгиню Мавру, княгиню Анну, князя Степана, князя Семена, князя Іоана, князя Олександра, князя Іоана, князя Семена, князя Дмитра, князя Євстафія, князя Григорія, князя Андрія, князя Іоана, князя Харитона, князя Василя, князя Михайла, князя Андрія, князя Михайла, князя Василя, князя Іоана, княгиню Анну, княгиню Тетяну, княгиню Анастасію, княгиню Марію, княгиню Ірину, княгиню Агрипину, княгиню Ульяну, князя Іоана, князя Федора, князя Михайла, князя Іоана, князя Іоана, княгиню Тетяну, Авдотью,
кінець».
Синодик ризницы Троице-Сергиева монастыря
«Князю Патрикею (Воротынские), князю Василию, княгине Марии»
ОР РГБ. Ф. 304/III. № 25. Л. 11, 65.
Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря 1597 г.
Род князя Ивана Михайловича Воротынского.
Роман. Георгий. Михаил. Федор. Семион. Иноку Варсонофию. Марию. Иноку Марфу. Иноку Агриппину. Анастасию. Ивана. Владимира. Благоверного князя Ивана, во иноцех Иону.
Род князя Дмитрия Воротынского.
Киприана. Патрикия. Ивана. Андрея. Иарию. Иноку Маремьяну. Иноку Софью. Кн. Ивана.
РГАДА Ф. 1192 е.хр. 553
Синодик Белевского Преображенского собора 1725 г.
Род князей Воротынских.
Кн. Алексия. Кн. Марфы. Боярина кн. Иоанна. Боярыни кн. Натальи. Боярыни кн. Настасьи. Княжны Параскевы дев. Кн. Михайла. Кн. Алексея млад. Кн. Иоанна млад.
РО РГБ. Ф. 178 № 8297.
Синодик Воротынского Спасского, что на устье Угры, монастыря.
Род князей Воротынских:
Князя Дмитрия, князя Симеона, князя Феодора, князя Василия, княгини Анны, князя Михаила, княгини Стефаниды, князя Владимира, князя Александра, князя Иоанна, князя Алексея, княгини Марфы (на полях приписано Агрипины), княгини Натальи, князя Алексея младшаго, князя Иоанна младшаго (дважды), болярина князя Никиты, болярина Иоанна, болярина Григория, Василия Евфимия, Акилины, Флора, Варвары, княгини Анастасии, болярина князя Иоанна, Ферапонта.
ЧИОДР. 1863. Кн. 1. С. 105–106.
Синодик Перемышльского Троицкого Лютикова монастыря
Род Князя Владимира, Князя Михаила, Князя Александра Ивановичев Воротынских.» Князя Романа, Князя Юрия, Князя Льва, Князя Федора, Князя Михаила, инока Князя Иону, Князя Иоанна, Князя Федора, Князя Михаила, Князя Еоумення, Князя Киприана, Князя Тихона, Князя Евдокима, Князя Логина, Князя Симеона, Князя Федора, Князя Георгия, Князя Симеона, Князя Федора, Захария, Иакова, Юрия, иноку Княгиню Мароу и. т. д. На 4‑х страницах несколько сот имен мужских и женских; в том числе более 20 убиенных
Генеалогия
генерация от Рюрика
1. КН. ФЁДОР ЛЬВОВИЧ (1442, † 1482/83)
Происхождение князя Федора Воротынского требует особого пояснения. В родословных книгах XVI-XVII вв. князь Лев Романович либо назван бездетным9, либо запись о его бездетности отсутствует, но его потомства все равно нет10. В обоих случаях дети Льва и Юрия Романовичей записаны как сыновья Юрия: Иван, Василий, Федор, Семен. Однако, опираясь на известные грамоты «князя Федора Львовича»11, исследователи справедливо считают его сыном князя Льва Романовича12. По сведениям Филарета (Гумилевского), в Елецком синодике после князя Льва Романовича Новосильского был записан «кн. Василий Львовичъ»13. В Введенском Печерском синодике тоже поминают князей Василия и Федора Львовичей14. Отчество князя Ивана Юрьевича известно из его договорной грамоты 1459 г. и записей в церковных книгах XV в. Покровского Доброго монастыря15. Из посольских книг московско-литовских дипломатических сношений следует, что князь Семен Одоевский приходился ему родным братом16. Следовательно, князь Лев Романович имел сыновей: Василия и Федора, а князь Юрий Романович имел сыновей: Ивана и Семена. Поскольку поздние сведения родословных книг в данном случае ненадежны, то по ним невозможно достоверно определить, кто из князей Львовичей был старшим. О хронологии жизни князя Льва Романовича Новосильского известно очень мало. В Успенском вселенском синодике он назван среди князей, умерших в первой трети XV в.17Осенью 1424 г. старшим новосильским князем уже выступал его младший брат – Юрий Романович18; в августе 1427 г. жена князя Льва Романовича названа «вдовой»19. Сам же князь Федор Львович дожил до глубокой старости и был жив еще осенью 1480 г. «коли царь (Ахмат – Р. Б.) былъ на Угре»20. Следовательно, он родился не ранее рубежа XIV-XV вв.15 марта 1505 г. одновременно три человека поручились перед великим князем литовским Александром за то, что женой князя Федора Воротынского была Мария Корибутовна. Наиболее информативно свидетельство князя Андрея Костянтиновича Прихабского: «я слыхал от отца моего, што тая Маря Корыбутовна – матка кн(е)г(и)ни Ивановое Ярославича, и выдал ее кн(я)зь великии Витовтъ за кн(я)зя Федора Воротынского. А матъка моя поведала, штож ездил отец ее кн(я)зь Семенъ Вяземскии и [с] своею кн(я)г(и)нею, проводить ее до Воротынска, а кн(я)зь Дмитреи Шутиха, а Григореи Протасевъ»21. Отец Марии – князь Дмитрий-Корибут Ольгердович в последний раз упоминается в летописях под 1404 г.22 После его смерти, дата которой неизвестна, великий князь литовский Витовт († 1430 г.) стал опекуном Марии Корибутовны, а потом выдал ее замуж. О хронологии жизни князя Семена Вяземского ничего не известно. Ю. Вольф не отождествлял его с князем Семеном Мстиславичем Вяземским, погибшим в 1406 г.23 Князь Дмитрий Всеволодич Шутиха и мценский воевода Григорий Протасьев(ич) впервые достоверно упомянуты в летописях осенью 1424 г.24Другие свидетели – князь Иван Васильевич Красный и пан Андрей Дрождына подтвердили, что дочь князя Федора Воротынского была за князем Иваном Ярославичем (сыном князя Василия Ярославича Серпуховского и Боровского). Их брак состоялся не ранее второй половины 1450‑х – начала 1460‑х гг. Поэтому наиболее вероятным временем для его брака представляются 1420‑е гг. Именно в 1420‑е гг. политика Витовта была направлена на сближение с князьями новосильского дома, что особенно проявилось после смерти его зятя – великого князя московского Василия I († 1425 г.). В конце июля – начале августа 1427 г. Витовт совершил поездку в Новосильско-Одоевскую и Рязанскую земли, а затем 14 августа писал из Смоленска великому магистру Немецкого (Тевтонского) ордена: «Тут нас посетили великие герцоги, те самые из русских стран (земель), которых также в их [странах] почтительно называют великими князьями: рязанские – переяславский, пронский; новосильский со своими детьми, и также из знаменитой Одоевской страны – герцоги и герцогиня-вдова воротынские»29. С опорой на письмо спутника Витовта – шута Генне от 15 августа следует полагать, что великому князю литовскому присягнули пять князей новосильского дома30. В письме Витовта под «великим князем новосильским» подразумевается Юрий Романович. Далее стоит ссылка на его сыновей (во множественном числе) – князей Ивана и Семена, а также воротынских князей (во множественном числе) – Федора и Василия Львовичей, вместе с их матерью – вдовой князя Льва Романовича. Очевидно, к августу 1427 г. эти пятеро новосильских князей перешагнули рубеж совершеннолетия и при этом находились в добром здравии. Именно на встрече воротынских князей с великим князем литовским могла быть достигнута договоренность о браке князя Федора Львовича с княжной Марией Корибутовной. С такой датировкой вполне согласуется хронология жизни их детей. Период рождения некоторых из них можно установить по косвенным признакам. Находясь на литовской службе, еще до 1448 г. князь Федор Львович получал в Литве землевладения в вотчину31. Но лишь в 1455 г. он обратил внимание великого князя литовского Казимира на то, что «на перъвыхъ листех» его «детеи не писано». По его просьбе ему была выдана новая грамота, в которой переданные ему ранее литовские земельные «пожалования» подтверждались «ему у вотчину и его детемъ»32. Это было возможным по достижении его сыновьями совершеннолетия. К 1448 г. князь Федор Львович выдал свою старшую дочь замуж за князя Ивана Андреевича Можайского33. Видимо, эти дети князя Федора Львовича родились не ранее 1430‑х гг. Приблизительно можно определить и последние годы жизни его детей. Князь Михаил Федорович умер еще до апреля 1483 г.34 {о его смерти в 1472–1477 гг. см. комментарий, не вошедший в публикацию}. Князья Дмитрий и Семен Федоровичи в последний раз упомянуты в марте 1498 г.35, а к 1504 г. их выморочные воротынские дольницы отошли в собственность Ивана III36. Дата смерти жены князя Ивана Андреевича Можайского неизвестна. Жена князя Ивана Васильевича Ярославича – княгиня Евдокия Федоровна была жива еще в марте 1505 г. Ее сестра княгиня Анна Федоровна была замужем за неким князем Янушем и умерла, видимо, около 1491–1492 гг.37 Еще одна их сестра княгиня Феодосия Федоровна была жива еще в декабре 1505 г.38
В политической карьере князя Федора Львовича тоже много белых пятен. К сожалению, литовско-новосильское докончание 1427 г. не сохранилось. Тем не менее, М. М. Кром справедливо указал на то, что все последующие договоры князей новосильского дома ссылаются на «Витовтово докончание». Их формуляр на протяжении XV в. практически не менялся, а многие статьи сохранились в прежнем, архаичном виде39. В этой связи имеется возможность реконструировать договор 1427 г. В упомянутом письме Витовта среди князей «Одоевской земли» выделен только один «великий князь». Также в летописном рассказе о коронации Витовта сказано, что ему служил «великии князь одоевьскии» (в единственном числе)40. Поэтому следует полагать, что с новосильской стороны был заключен один «коллективный» договор о службе Витовту. Вслед за Юрием Романовичем в нем, видимо, были поименованы его дети и воротынские Львовичи. На это определенно указывают статьи договоров 1442 и 1459 гг., в которых князья Федор Львович и Иван Юрьевич (последний вместе с белёвскими племянниками) предписывали Казимиру соответственно: «а мене ему во чъсти, и в жалованьи, и в доконъчаньи держати, по тому жъ, какъ дядя мене его держалъ, г(о)с(по)д(а)ръ великии князь Витовтъ»41; «А ему насъ во ч(е)сти, и в жалованьи, и в доконъчаньи держати, какъ дядя его, великии княз(ь) Витовтъ, отца нашого держалъ и насъ во ч(е)сти и в жалованьи»42.
Поле смерти Витовта князья новосильского дома присягнули на верность великому князю литовскому Свидригайлу, который в своем письме от 22 июня 1432 г. сообщал великому магистру Немецкого ордена: «Мы не хотим скрывать, что великие князья одоевские, братья, вчера прибыли к нам с различными дарами, желали и особенно настойчиво просили, чтобы мы соизволили быть им милостливым господином и покровителем, под присягой клялись служить нам вечные времена»43. В публикации сочинения А. Коцебу на немецком языке присягнувшие Свидригайлу князья названы: «die Grosfürste von Odoyow, Gebrüdere», что является точной цитатой из подлинного письма Свидригайла44. Однако, при подготовке русскоязычного издания коллежский асессор Нестерович допустил иной перевод: «великие князья Одоевские, родные братья», что существенно искажает оригинал45. В оригинале не указана степень родства. Это позволяет трактовать источник таким образом, что братья могли быть не только родными, но и двоюродными или троюродными. Данное наблюдение немаловажно, поскольку к тому времени титул «одоевских» еще не превратился в фамилию и принадлежал не только потомкам князя Юрия Романовича.
В конце 1375 г. Новосиль был разорен татарами46. И хотя город еще упоминается в памятнике конца XIV – начала XV вв. «Списке городов дальних и ближних»47, со временем он запустел, а столица княжества переместилась в Одоев48. «Новосильская земля» (1407 г.)49 в официальных грамотах стала именоваться «землей Новосильской и Одоевской» (1427 г.)50, а в нарративных источниках – «lande Odoyow» или «Одоевской землей» (1424–1427 гг.)51. В первой трети XV в. в Новосильско-Одоевском княжестве уже существовали уделы: Белёвский, Воротынский и собственно Одоевский. При этом Одоев для всех князей новосильского дома оставался главным городом. Местные князья продолжали именоваться «новосильскими», но иногда «одоевскими», что могло обозначать одно и то же – общий родовой титул. Вместе с тем возникли удельные титулы. Посольские книги московско-литовских дипломатических сношений под 1494 г. упоминают «новосилскихъ князей всехъ: одоевскихъ, и воротынскихъ, и беле́вскихъ» (пунктуация моя)52. В подобных фрагментах пристальное внимание нужно уделить расстановке знаков препинания. К концу XV в. особого Новосильского удела не существовало, поэтому выражение «новосилскихъ князей всехъ» здесь является обобщающим, и в тексте после него должно ставиться двоеточие. К сожалению, в подобных случаях в публикациях московско-литовских договоров после «новосильских князей» /С. 30/ неоправданно ставилась запятая. В докончании 1494 г. по двум спискам посольских книг следует читать: «кн(я)зи новоселскиi: одоевскиi, и воротынскиi, и перемышлскиi, и беле́вскиi» (пунктуация моя)53. Не случайно в оригинале после «кн(я)зи новоселскиi» не стоит союз «и», заменявший запятую. Он ошибочно отразился лишь в списке пятой книги записей Литовской метрики54. В докончании 1508 г. акценты более явные: «новоселские кн(я)зи: одоевъские, и воротынские, и перемышские, и беле́въские» (пунктуация моя)55. Здесь под общим родовым титулом «новосильских» упомянуты удельные князья: одоевские, воротынские, белёвские, а также ветвь воротынских – перемышльские. В то же время в посольских книгах сношений Москвы с Крымом под 1498 г. видим отождествление термина «одоевские князья» с понятием «одоевскихъ городовъ князи»56. Они княжили в городах, у которых «Одоевъ въ головахъ»57. То есть под «одоевскими князьями» имеются в виду князья «Одоевской земли». В летописном рассказе о коронации Витовта выражение «одоевьскыи князи», видимо, тоже подразумевает вообще князей новосильского дома58. В полной титулатуре каждого князя возникли сложносоставные конструкции, в которых отражалось право на общее родовое имущество и право на собственный удел. Что касается воротынской ветви, то князь Лев Романович из источников известен под титулом «новосильского»59; князь Федор Львович – под титулами «новосильского и одоевского» или же «воротынского»60; его дети – под титулами «новосильских и одоевских и воротынских» или просто «воротынских»61. В письме от 14 августа 1427 г. Витовт упомянул сыновей и вдову князя Льва Романовича с титулом «von Wrotynsk etc.», где слово «etc.» явно указывает на сокращение сложносоставного титула воротынских князей62. Поэтому в письме Свидригайла от 22 июня 1432 г. под «одоевскими» вполне могли подразумеваться и воротынские князья.
М. М. Кром справедливо заметил, что с некоторых пор договорные грамоты удельных воротынских и удельных одоевских князей с Литвой стали заключаться независимо друг от друга. Причем каждая ветвь принимала во внимание только свои предыдущие докончания63. Обратим внимание на то, что в письме Свидригайла «великие князья одоевские, братья» названы во множественном числе. То есть к 1432 г. в роду новосильских был не один, а как минимум два «великих князя». Должно быть, к этому времени великого князя Юрия Романовича уже не было в живых, и возникла практика заключения двух литовско-новосильских договоров следующим поколением новосильских князей. Время для выделения особого литовско-воротынского договора было благоприятным. Родная сестра Львовичей была за князем Василием Семеновичем Друцким, который входил в ближайшее окружение великого князя литовского64. Князь Федор Львович, видимо, уже был женат на родной племяннице Свидригайла – Марии Корибутовне; также сторонниками Свидригайла были родные братья Марии – князья Иван и Федор Корибутовичи65. Наконец, укажем на то, что в декабре 1432 г. князь Василий Львович явно служил Свидригайлу и был убит в битве при Ошмянах66. На этом основании следует полагать, что именно в 1432 г. литовско-новосильский договор 1427 г. распался на две ветви – литовско-воротынскую, далее представленную договорами 1432, 1442, 1483 гг.67, и литовско-одоевскую, представленную договорами 1432, 1459, 1481 гг. Причем в договорах 1459, 1481 гг. упоминаются и князья белёвской ветви68. Таким образом, исследование титулатуры князей новосильского дома и литовско-новосильских договоров существенно дополняет картину жизни князя Федора Львовича Воротынского.
Возобновленный в июне 1432 г. литовско-новосильский союз оказался недолговечным. В августе того же года против Свидригайла выступил его двоюродный брат Сигизмунд. По свидетельству Я. Длугоша, ему покорились «замки литовские, такие как Вильно, Троки, Гродно. Земли же русские, Смоленск, Витебск остались верны Свидригайлу»69. Последний еще несколько лет сохранял власть в русских землях Великого княжества Литовского, но после поражения под Вилькомиром в сентябре 1435 г. стал ее утрачивать. 17 марта 1436 г. Свидригайло сообщал великому магистру Немецкого ордена, что неприятели «распустили слух о его смерти, вследствие чего воевода мценский Григорий, иначе Протасий, отклонился было от него вместе со многими другими городами. Однако Григорий вторично поклялся ему в своей верности»70. Примечательно, что, получив это ложное известие, феодалы литовской части Верхнего Поочья «отклонились» не к Сигизмунду, против которого еще недавно воевали, а стали искать поддержки в Великом княжестве Московском. Согласно житию Даниила Переяславского (памятник XVI в.), Григорий Протасьев «властельствовал» во Мценске, но потом «повелениемъ же великаго князя (московского – Р. Б.) преселился оттуду въ царствующий градъ Москву, съ нимъ же приидоша множество людий»71. Происходящее не могло не влиять на князей новосильского дома. В тексте посольских речей Ивана III конца XV в. сохранилось смутное свидетельство как будто бы о службе князей Федора Львовича Воротынского и Ивана Юрьевича Одоевского – Василию II72. Если оно достоверно, то сближение новосильских князей с Москвой предположительно тоже следует отнести к 1436 г. Кроме второй половины 1430‑х гг. сложно предположить другой период союза князя Федора Львовича с Москвой, поскольку в начале 1440‑х гг. он уже вновь находился на литовской службе.
Договор князя Федора Львовича с великим князем литовским Казимиром сохранился в составе пятой книги записей Литовской метрики в копии конца XVI в. Другой дошедший до нас экземпляр находится в собрании А. Нарушевича в списке XVIII в. и представляет собой латинский текст той же грамоты. Датировка договора требует особого комментария. В публикации русского текста: «А писано в Троцехъ, под леты Рожества Хр(и)с(то)ва 1447, м(е)с(я)ца фев(раля) 20 день, инъдик 5»; то же в публикации латинского текста: «Datum in Troki, Anno a Nativitate Domini 1447, mensis Februarii 20 die, indictione quinta». Эта дата содержит противоречие, поскольку 20 февраля 5 индикта соответствует 1442 г., а не 1447 г., как указано в обоих списках. В первой публикации П. А. Муханов напечатал «1447», как в рукописи73. То же в публикации латинского текста, изданного Ю. Шуйским74. Однако в следующей публикации русского текста И. И. Григорович без всяких объяснений напечатал «1442»75. Далее Л. В. Черепнин напечатал «1447», но в сноске заметил, что «должно быть: 1442»76. В публикации, подготовленной Э. Банионисом, в сноске высказано другое мнение, что здесь «явная ошибка переписчика», вероятно, сделанная еще в XVI в. Но за основу датировки предложено брать «1447» г., а «инъдик 5» считать ошибкой, поскольку 20 февраля 1447 г. соответствует 10 индикту77.
В этой связи нужно заметить, что применение индиктов для датировки актов было вполне обычным. Необычным же для русских актов и в частности для литовско-новосильских договоров является датировка в западной традиции «под леты Рожества Хр(и)с(то)ва», а не от сотворения Мира. Это, видимо, говорит о том, что составитель грамоты был католиком. Если недошедший до нас оригинал был датирован на латыни, то в поздних списках погрешность датировки составляет всего один символ «V». Отсюда расхождение даты на пять лет. Указано «MCCCCXLVII», но должно быть «MCCCCXLII». Целесообразность заключения литовско-воротынской грамоты именно в начале 1440‑х гг. была обусловлена положением договоров, восходящим к «Витовтову докончанию» 1427 г. В нем предусматривалось продолжение службы новосильских князей Литве после смерти одного из участников договора: великого князя литовского или старшего новосильского князя. Условия этой службы должны были скрепляться таким же договором, иначе предыдущий договор считался расторгнутым. По различным причинам возобновление предыдущих литовско-новосильских договоров могло несколько затягиваться. В 1432 г. оно было обусловлено смертью Витовта и князя Юрия Романовича. Затем с Сигизмундом новосильские князья, видимо, не имели договорных отношений. Но в 1440 г. на литовском престоле вновь сменился великий князь. В этой связи в 1442 г. князь Федор Львович возобновил с ним отношения по «Витовтову докончанию». Он находился на литовской службе, являлся козельским наместником 1 и с середины XV в. получал от короля Казимира богатые земельные пожалования. Среди них – волости Лагинск и Крайшино вокруг Воротынска, южнее располагался город Перемышль с волостью Озереском 2. Возможно, в Перемышле находился удел князя Михаила Федоровича, поскольку позже он отошел к его сыну князю Ивану Михайловичу. В источниках конца XV в. князь Иван Михайлович зачастую называется именно Перемышльским 3. После смерти его дядей Дмитрия и Семена Федоровичей, Воротынск отошел к Ивану III 4. Однако затем князь Иван Михайлович получил Воротынск от Василия III 5. Далеко на западе, в верховьях рек Угры, Болвы и Снопоти, князю Федору Львовичу были пожалованы волости: Демена со Снопотцом, Городечна с Колуговичами, Ужеперет и Ковыльна 6. Позже к ним добавились и другие волости 7. Приблизительно с середины XV в. все литовские пожалования воротынским князьям стали смоленскими «пригородами», т. е. административно были подчинены Смоленску 8. В самом Смоленске Казимир пожаловал князю Федору Львовичу Немчиновский двор 9. При этом в треугольнике между волостями Деменой, Снопотцом и Ковыльной располагались волости Любунь, Ближевичи и Печки, вероятно, принадлежавшие Смоленской епископии. Указание источника на принадлежность Любуни, Ближевичей и Печек Смоленскому владыке относится к концу 1493 – началу 1494 гг. 10. В то время Смоленским епископом был Иосиф Болгаринович, который лишь незадолго до этого был переведен в Смоленск из Слуцка 11. Если он не владел этими волостями издавна, то и возможность их скорого приобретения внутри владений воротынских князей сомнительна. Поэтому обратим внимание на то, что еще в середине XII в. в верховьях реки Болвы располагался город Оболвь (вблизи Демены XV в.) 12. В нем собиралась гостинная дань, с которой шел доход Смоленской епископии и Смоленскому владыке 13. Вероятно, схожее положение дел сохранялось и к концу XV в. В таком случае волости смоленского владыки имели не персональную, а епархиальную принадлежность. Таким образом, князь Федор Львович был тесно связан со Смоленской землей и Смоленской епископией, но при этом, как оказывается, состоял в общении с духовенством Северо-Восточной Руси (на тот момент уже Московской митрополии).
События 1480 г. тесно связанны с Воротынском. К этому времени действия великого князя московского Ивана III спровоцировали ссору с его родными братьями – князьями Андреем (старшим) и Борисом. Внутренние московские разногласия усугублялись обострением московско-литовских и московско-ордынских отношений. Воспользовавшись усобицами московских князей, король Казимир IV направил послов к хану Большой Орды Ахмату, «и советъ учиниша приити на великого князя, царю отъ себе полемъ, а королю отъ себе» 14. Для обороны своих рубежей московские войска выдвинулись на берег Оки к Серпухову и Коломне. Услышав об их расположении, хан Ахмат решил обойти их со стороны р. Угры: «Царь же Ахмат поиде со всеми своими силами мимо Мченескъ и Любутескъ и Одоевъ, и пришед ста у Воротыньска, ожидая к себе королевы помощи» 15. Согласно Ростовскому владычному своду, «знахаре ведяху его ко Оугре реце на броды» 16. Очевидно люди, которые «знали» дорогу и вели татар на Угру были местными. Позже московская сторона назвала имя одного из проводников татар – это «Сова Карповъ» 17. Литовская метрика с 1486 по 1498 гг. упоминает некоего «Ивашку» по прозвищу «Сова», причем до 1495 г. его род занятий не определен 18. Вероятно, это тот самый «Иван Карпович», который в начале 1490‑х гг. был боярином князя Семена Воротынского 19, а в 1480 г., возможно, служил его отцу – князю Федору Львовичу. Так становится понятной связь хана Ахмата с Воротынском – поход татар поддерживался князьями новосильского дома в рамках литовско-ордынских соглашений. Однако основные силы Казимира IV на помощь Ахмату не приходили: «король самъ к нему не поиде, ни силы своея не посла, поне же бо быша ему свои усобици», поскольку «тогда бо воева Минли Гиреи царь крымскыи королеву землю Подольскую, служа великому князю (Ивану III – Р. Беспалов)» 20. Кроме того, великий князь московский тайно послал на ладьях по Волге в Большую Орду свои войска 21. Вскоре Ивану III удалось примириться со своими братьями Андреем (старшим) и Борисом, а также – получить от них солидное подкрепление. Ахмат же, не дождавшись помощи от Казимира IV, отступил от Угры и пошел «по Литовъскои земле по королеве державе, воюя его землю за его измену» 22. В Устюжских летописях отмечено, что он «Воротынеск и иные городы, села и волости, много поимал и в полон поведе безчисленное множество» 23. При описании «Угорщины» текст Вологодско-Пермской летописи с 1480 по 1538 гг. не находит себе аналогов в других летописных сводах, восходящих к официальному великокняжескому летописанию 1480–1481 гг. 24 Он передает совершенно особые сведения о разорении ханом Ахматом Верхнего Поочья: «а градов литовских пленил: Мченескъ, Беле́в, Одоев, Перемышль, два Воротынска, старои да новои, два Залидовы, старои да новои, Опаков, Серенескъ, Мезыскъ, Козелескъ. А всех градов плени 12, милостью божьею не взя, а волости все плени и полон вывел. А прочь царь пошол от Угры в четверг, канун Михайлову дни». 25
После отступления татар многие князья новосильского дома еще продолжали верно служить Казимиру IV. Возможно, в качестве компенсации за татарское разорение князь Федор Львович Воротынский получил от короля в вотчину город Лучин 26. В 1482 г. Иван III вновь добился военной помощи от хана Менгли-Гирея, направленной против Литвы. В сентябре этого года крымские войска внезапно напали на Киев, сожгли его и разорили еще 11 порубежных городов 27. В этой связи воротынские князья вместе с одоевскими родичами в составе крупного литовского войска ходили оборонять Киевскую землю от нашествия крымских татар 28. К осени 1482 гг. князь Федор Львович скончался. Пребывая в Киевской земле, его потомки внесли его имя в синодик Киево-Печерского монастыря («Род княз(я) воротыньского: княз(я) Феодора, княг(иню) М(а)рию, княз(я) Василиа»)) 29.
10 апреля 1483 г. потомки князя Федора Львовича заключили с Казимиром новое докончание о своей службе Великому княжеству Литовскому [АЗР. Т. 1. №80. С. 100–101; РГАДА, фонд 79, опись 3, eд. хр. 2, л. 2–2 об.].
Ж.: МАРИЯ КОРИБУТОВНА, Maria Korybutówna z pewnością została wydana za mąż za Fiodora Lwowica w jakiś czas po opanowaniu Worotyńska przez Litwę, co miało miejsce przed 3 lipca 1407 roku 30.
Редкие источники по истории России. Вып. 2: Новые родословные книги XVI в. / АН СССР. Ин‑т истории СССР; Сост. З. Н. Бочкарева, М. Е. Бычкова. М., 1977 (далее – РИИР. Вып. 2). С. 43, 112; Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. Ч. 1. М.: Университетская типография, 1787. С. 180.
10 Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России в XVI в. Историко-генеалогическое исследование. М.: «Наука», 1986. С. 75; Родословная книга по трем спискам с предисловием и азбучным указателем // Временник Императорскаго общества истории и древностей российских. Кн. 10. М.: /С. 35/ Университетская типография, 1851. С. 70, 156–157; Родословная келейная книга святейшаго государя Филарета Никитича патриарха всея России // Юбилейный сборник Императорскаго С.-Петербургскаго архелогогическаго института. 1613–1913. СПб.: Синодальная типография, 1913. С. 41.
11 Lietuvos metrika. Kniga Nr. 5 (1427–1506): Užrašymų knyga 5 / Parengė Egidijus Banionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 (далее – LM. Kn. 5). №130–132. P. 247–248; ДДГ. №39. С. 117–118; №49–50. С. 149–150.
12 Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. СПб.: Типография братьев Пантелеевых, 1892. С. 309–310; Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 279–280, 585; Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. СПб.: Т‑во Р. Голике и А. Вильборг, 1906. С. 50, 61–62, 69, 105; Несмотря на то, что происхождение воротынских князей от князя Федора Львовича твердо установлено, в историографии остается еще одна трудноразрешимая проблема. Судя по договорной грамоте 1483 г., в конце XV в. князь Иван Михайлович Воротынский наверняка знал, что является внуком князя Федора Львовича (Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 1. СПб.: Типография II отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1846 (далее – АЗР. Т. 1). №80. С. 100–101). Однако в 1557 г. внуки князя Ивана Михайловича приказали духовенству Анастасова монастыря: «пети и обедни служити по князе Феодоре Юрьевиче Воротынском» (Троицкий Н. И. Одоевский Анастасов Богородице-Рождественский монастырь (упраздненный) // Тульские древности. Тула: Приокское книжное издательство, 2002. С. 278). В синодиках посмертно князь Лев Романович нигде не назван иноком и не имеет второго имени. Поэтому не ясно, откуда у князя Федора Львовича взялось второе отчество.
13 Филарет, архиепископ. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 5. Чернигов: Типография Шапиры, 1874. С. 44.
14 Поменник Введенської церкви в Ближних Печерах Киево-Печерської Лаври / Упорядкування та вступна стаття Олексiя Кузьмука // Лаврьский альманах. Вип. 18. Київ, 2007. С. 18, 19.
15 LM. Kn. 5. №137. P. 254–255; ДДГ. №60. С. 192–193; Леонид, архимандрит. Описание лихвинскаго Покровскаго Добраго мужскаго монастыря // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М.: Университетская типография, 1875. Кн. 4. V. Смесь. С. 106–107, 139.
16 Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Польско-Литовским. Т. I. (С 1487 по 1533 год). // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 35. СПб.: Типография Ф. Елеонскаго и Ко, 1892 (далее – СИРИО. Т. 35). С. 5, 62, 65.
17 Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российския касающихся / /С. 36/ Изд. Новиков Н. [И.] Ч. 6. М.: Типография компании типографической, 1788 (далее – ДРВ. Ч. 6). С. 447.
18 ПСРЛ. Т. 26. М.-Л., 1959. С. 182–183; О датировке упоминания князя Юрия Романовича в русских летописях см.: Беспалов Р. А. Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом осенью 1424 года // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 4. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2009. С. 205–207.
19 CEV. №1298. S. 779.
20 СИРИО. Т. 35. С. 136.
21 LM. Kn. 6. №530. P. 312.
22 ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 232; Wolff J. Rόd Gedimina. Dodatki i poprawki do dzieł Hr. K. Stadnickiego: «Synowie Gedimina», «Olgierd i Kiejstut» i «Bracia Władysława Jagiełły». Krakόw: W drukarni Wł. L. Anczyca i Spόłki, 1886. S. 152–154.
23 ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 236; Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 550.
24 ПСРЛ. Т. 26. М.-Л., 1959. С. 182–183; О датировке их упоминания в русских летописях см.: Беспалов Р. А. Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом осенью 1424 года. С. 205–207.
25 При заключении договора второй половины 1453 – начала 1454 гг., князь Василий Ярославич целовал крест к Василию II за себя и за своего сына князя Ивана (ДДГ. №56. С. 168–175). А. Б. Мазуров и А. Ю. Никандров заметили, что княжичи имели право самостоятельно целовать крест с 12 лет. И сделали вывод, что князю Ивану еще не было 12 лет, но он и не был младенцем. На этом основании датировали время его рождения серединой 1440‑х гг. (Мазуров А. Б., Никандров А. Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине XIV – первой половине XV вв. М.: «Инлайт», 2008. С. 262). Однако необходимость целовать за него крест может объясняться как раз тем, что он достиг 12 лет, но не присутствовал при составлении грамоты. То есть он мог родиться не ранее 1434 г. (времени женитьбы князя Василия Ярославича), но и не позднее начала 1440‑х гг. Так или иначе, вряд ли брак самого князя Ивана Васильевича Большого состоялся ранее второй половины 1450‑х – начала 1460‑х гг.
26 ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 472; CEV. №369. S. 150; По мнению Я. Тенговского, между разорением Воротынска и браком князя Федора Воротынского имеется связь (Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 1999. S. 114–115). Однако по источникам она не прослеживается.
27 ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 477; ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 236.
28 Беспалов Р. А. Опыт исследования «Сказания о крещении мценян в 1415 году» в контексте церковной и политической истории Верхнего Поочья // Вопросы истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Материалы XIII Всероссийской научной конференции. Калуга, 7–9 апреля 2009 г. Калуга: Изд-во «Полиграф-Информ», 2009. С. 27–34.
29 CEV. №1298. S. 779.
30 CEV. №1329. S. 799; О датировке письма шута Генне см.: Беспалов Р. А. Источники о поездке Витовта в область Новосильского и Рязанского княжеств в 1427 году // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 3. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2008. С. 256–259.
31 Lietuvos metrika. Kniga Nr. 3 (1440–1498): Užrašymų knyga 3 / Parengė Lina Anužytė ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Žara, 1998 (далее – LM. Kn. 3). P. 37.
32 LM. Kn. 3. P. 39.
33 LM. Kn. 5. №132. P. 248–249; ДДГ. №50. С. 149–150.
34 Князь Михаил Федорович не был участником литовско-воротынского договора 1483 г. (АЗР. Т. 1. №80. С. 100–101).
35 СИРИО. Т. 35. С. 247.
36 ДДГ. №89. С. 355.
37 LM. Kn. 6. №530. P. 312; Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 212–213. По смерти княгини Анны ее имение Лоск было передано великим князем литовским Казимиром († 7 июня 1492 г.) пану Петру Яновичу, видимо, в то время, когда он уже был троцким воеводой (достоверно с 1491 г.) (Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795. Krakόw: W drukarni Wł. L. Anczyca i Spόłki, 1885. S. 57).
38 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 12–13; Литовская метрика. Отдел первый. Часть первая: Книги записей. Т. 1. // Русская историческая библиотека, издаваемая императорскою Археографическою комиссиею. Т. 27. СПб.: Сенатская типография, 1910. №75. Стб. 587–588; Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Т. 2. Вильна: Печатня Губернскаго правления, 1867. №5. С. 6.
39 Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой половины XVI в. М.: «Археографический центр», 1995. С. 38–39.
40 Первая редакция «похвалы Витовту» сохранилась в рукописи 1428 г., но она была составлена до августа 1427 г., когда «великий князь одоевский» еще не находился на литовской службе, поэтому первоначально не был упомянут в «похвале» (ПСРЛ. Т. 17. СПб., 1907. Стб. 417–420). Вторая редакция «похвалы» вошла в состав рассказа о коронации Витовта в 1430 г. В ней уже сообщается о службе Витовту «великого князя одоевского» (ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 59, 76, 108).
41 LM. Kn. 5. №130. P. 247; ДДГ. №39. С. 118.
42 LM. Kn. 5. №137. P. 254; ДДГ. №60. С. 192; У князя Ивана Юрьевича Одоевского и его белёвских племянников разные отцы, поэтому фраза «великии княз(ь) Витовтъ, отца нашого держалъ и насъ во ч(е)сти и в жалованьи» относится только к князю Ивану Юрьевичу.
43 Письмо датировано: «am sontag infra octavas Corporis Christi anno domini etc. tricesimo secundo» – «в воскресенье недели праздника Тела и Крови /С. 38/ Христовых, год тридцать второй» (GStAPK OBA. 6138). Цитируется с учетом уточнений датировки и перевода письма, выполненных С. В. Полеховым, которому я выражаю искреннюю признательность за предоставление оригинала.
44 Kotzebue A. Switrigail. Ein Beytrag zu den Geschichten von Litthauen, Rußland, Polen, Preussen. Leipzig: bey Paul Gotthelf Kummer, 1820. S. 75.
45 Коцебу А. Свитригайло, великий князь Литовский, или дополнение к историям Литовской, Российской, Польской и Прусской. СПб.: Типография Медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1835. С. 127; О публикации сочинения А. Коцебу на русском языке см.: Корф М. А. История издания в русском переводе сочинения Коцебу: «Свидригайло, великий князь литовский» // Русский архив. М.: Типография Грачева и К., 1869. №4. Стб. 613–628.
46 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. М., 2000. Стб. 113.
47 Тихомиров М. Н. Список русских городов дальних и ближних // Исторические записки. М.: Издательство Академии наук СССР, 1952. Т. 40. С. 225.
48 РИИР. Вып. 2. С. 112; Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Польско-Литовским государством. Т. III. (1560 – 1571 гг.). // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 71. СПб.: Типография А. Катанскаго и Ко., 1892. С. 510.
49 ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 477.
50 LM. Kn. 5. №130. P. 247; №137. P. 255; ДДГ. №39. С. 118; №60, С. 193.
51 CEV. №1181. S. 688; №1298. S. 779.
52 СИРИО. Т. 35. С. 120.
53 ДДГ. №83. С. 330; СИРИО. Т. 35. С. 126, 130; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Ч. 1. М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1894. №29. С. 17.
54 LM. Kn. 5. №78.2. P. 135.
55 Lietuvos metrika. Knyga Nr. 8 (1499–1514): Užrašymų knyga 8 / Parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. №80. P. 127; Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 2. СПб.: Типография II отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1848. №43. С. 55.
56 Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Крымскою и Нагайскою Ордами и с Турцией. Т. I. (С 1474 по 1505 год, эпоха свержения монгольскаго ига в России) // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 41. СПб.: Типография Ф. Елеонскаго и Ко., 1884. С. 269.
57 Выражение «Одоевъ въ головахъ» см.: Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Крымом, Нагаями и Турциею. Т. II. 1508–1521 гг. // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 95. СПб.: Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», 1895. С. 154.
58 ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 34, 57, 75, 106, 140–141, 162–163, 188–189, 209, 230–231.
/С. 39/ 59 Филарет, архиепископ. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 5. С. 44; ДРВ. Ч. 6. С. 447.
60 ДДГ. №39. С. 117–118; №49. С. 149; №50. С. 149–150; LM. Kn. 3. P. 37, 39.
61 АЗР. Т. 1. №80. С. 100–101; СИРИО. Т. 35. С. 20, 21, 35 и др.
62 Практика применения слова «etc.» для сокращения сложносоставных титулов была распространена. Например, титул Витовта указывался как: «grosfurste czu Lithauwen etc.» – «великий князь Литвы и др.» (CEV. №1298. S. 778–779).
63 Кром М. М. Меж Русью и Литвой… С. 39–41.
64 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy… S. 58.
65 Wolff J. Rόd Gedimina… S. 154–155.
66 РИИР. Вып. 2. С. 43.
67 LM. Kn. 5. №130. P. 247–248; ДДГ. №39. С. 117–118; АЗР. Т. 1. №80. С. 100–101.
68 LM. Kn. 5. №137. P. 254–255; ДДГ. №60, С. 192–193; Казакоў А. У. Невядомае даканчанне караля польскага і вялікага князя літоўскага Казіміра і князя Навасільскага і Адоеўскага Міхаіла Іванавіча 1481 г. // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Минск: РИВШ, 2010. С. 297–300; Выражаю благодарность А. В. Казакову за предоставление грамоты 1481 г. еще до ее публикации.
69 Jana Długosza kanonika krakowskiego Diejόw polskich / Perzeklad Karoła Mecherzyńskiego. T. IV. Kraków: W drukarni «Czasu» W. Kirchmayera, 1869. S. 444.
70 Kotzebue A. Switrigail… S. 133–134; Коцебу А. Свитригайло… С. 221–223.
71 ПСРЛ. Т. 21. Вторая половина. СПб., 1908. С. 615.
72 СИРИО. Т. 35. С. 51, 62.
73 Сборник Муханова. М.: Университетская типография, 1836. №4. С. 4–5.
74 Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1. Pr. 2. / Collectus opera Augusti Sokołowski, Josephi Szujski // Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 2. Crakoviae: W drukarni «Czasu», 1876. №8. S. 13–14.
75 АЗР. Т. 1. №41. С. 55–56.
76 ДДГ. №39. С. 117–118.
77 LM. Kn. 5. №130. P. 247–248.
78 СИРИО. Т. 35. С. 84.
79 Леонид, архимандрит. Описание лихвинскаго Покровскаго Добраго мужскаго монастыря. С. 106–107.
80 СИРИО. Т. 35. С. 136.
КНЖ. [......] ЛЬВОВНА ВОРОТЫНСКАЯ
М.: КН. ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ КРАСНЫЙ ДРУЦКИЙ, наместник витебский.
КН. ФЕДОР ЮРЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ
Первое упоминание Федора Юрьевича как предка воротынских князей содержится
в сборнике «Начало русскых князеи» конца 1520‑х – середины 1530‑х гг. Этот сборник принадлежал монаху Иосифо-Волоколамского монастыря Дионисию Лупе (князю Даниле Васильевичу Звенигородскому), одному из потомков князей Черниговских. Позднее та же версия была представлена в Румянцевской редакции родословных книг 1540‑х гг. и в Государевом родословце. С последним источником, имевшим официально признанный характер, представители князей Воротынских должны были быть хорошо знакомы31
Еще один «женский» вклад отразился в записи князей Воротынских из того же синодика Успенского собора: «княгине Марьи княж Федорове Юрьевича Воротынскаго и сыну ее князю Михаилу». Как и в предыдущем случае, князь М.Ф. Воротынский находился в свое время на литовской службе. Более того, видимо, именно он упоминался в Волоколамском патерике как инициатор убийства Матвея Варнавина, человека «добро детелна и боголюбива», то есть, не отвечал требованиям христианского благоверия. Впоследствии он «смертию напрасною умре»32. В современной историографии принято считать его сыном князя Федора Львовича Воротынского. Существование же Федора Юрьевича из родословной росписи князей Воротынских списывается на часто встречающиеся ошибки их составителей. Р.А. Беспалов, придерживаясь этой точки зрения, обратил однако внимание на требование воротынских князей братии одоевского Анастасова монастыря в 1557 г. «пети и обедни служити по князе Феодоре Юрьевиче Воротынском». Следом упоминался корм по князе Михаиле Федоровиче33. Трудно объяснить незнание аристократами князьями Воротынскими имен своих предков, живших всего столетие назад, тем более, что они на протяжении всего этого времени сохраняли непрерывную связь со своими родовыми княжескими центрами. Стоит отметить, что приведенная ранее память Воротынских из синодика Успенского собора присутствовала в Мазуринском списке, составленном в самом начале 1490‑х гг., то есть, является наиболее ранней фиксацией факта существования этого князя. Очевидно, что упомянутый здесь Федор Юрьевич, а точнее – его жена Мария, должны были иметь какие-то связи с Москвой. Женой Федора Львовича Воротынского была Мария Корибутовна. Вряд ли, однако, ее можно отождествить с Марией из синодика московского Успенского собора.Эти связи существовали еще до 1487 г., когда на службу к Ивану III перешел князь Иван Михайлович Перемышльский, предок князей Воротынских.
Параллельное существование двух Федоров (Львовича и Юрьевича) среди князей Воротынских подтверждается записью их рода в синодике Кирилло-Белозерского монастыря конца XV – первой четверти XVI в. В общем ряду здесь несколько раз было отмечено имя Федор. Следуя логике текста, в первом случае его вполне можно считать сыном Георгия (Юрия Романовича)34: «Князя Михаила, князя Романа, князя Георгия, князя Ионы, князя Ионы, князя Федора, князя Михаила, князя Михаила, князя Лва, князя Федора, князя Федора, князя Симеона, князя Киприана, князя Евмениа, князя Тихона, князя Логгина, князя Димитрея, князя Евдокима, княгиню Ефросинию».
В синодике ризницы Троице-Сергиева монастыря в княжеской части встречается
князь Федор Воротынский. Вполне вероятно, что речь шла именно о Федоре Юрьевиче. Отмечена здесь была и княгиня Мария. Среди имен обычных вкладчиков присутствовала память «князю Патрикею (Воротынские), князю Василию, княгине Марии»35 Редкое имя Патрикий присутствовало также в памяти рода князя Дмитрия Воротынского из синодика Иосифо-Волоколамского монастыря 1597 г. Не исключено, что речь в данном случае шла об ее предках.
∞, МАРИЯ ....,
Покоління ІІ
2/1. КН. МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (†1472/1477)
удельный князь из рода Воротынских. Михаил был старшим сыном Федора Львовича и новгород-северской княжны Марии Корибутовны, дочери князя Дмитрия-Корибута Ольгердовича. Возможно, в Перемышле находился удел князя Михаила Федоровича, поскольку позже он отошел к его сыну князю Ивану Михайловичу. В источниках конца XV в. князь Иван Михайлович зачастую называется именно Перемышльским 36. Михаил Фёдорович Воротынский скончался рано и управление его долей Воротынского княжества перешло к его единственному сыну Ивану Воротынскому (ум. 1535).
В Волоколамском патерике находится рассказ о трагических событиях в Воротынске; он входит в состав «Повестей отца Пафнутия», его автором называется прп. Иосиф. По мнению В. О. Ключевского, «Повести отца Пафнутия» записал некий Данила Моисеев, вероятно, бывший инок Пафнутьева монастыря. В патерик они были включены после смерти Иосифа его племянником Досифеем (Топорковым), не ранее 1546 г.[9] Оттуда вместе с «Повестями отца Пафнутия» рассказ попал в отдельную редакцию Жития прп. Пафнутия Боровского, где получил название «О убиении богобоязлива мужа». Досифей (Топорков), по всей видимости, собирал материалы для патерика на протяжении весьма длительного времени. Л. А. Ольшевская отметила, что одним из его информаторов еще в начале XVI в. мог быть его дядя – младший брат прп. Иосифа Волоцкого Вассиан (Санин), с 1506 г. архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский[10].
«Некогда,– рассказывал [Иосиф],– был я послан отцом (Пафнутием.– Р. Б.) в город Воротынск к бывшему там князю ради некоторых нужд и нашел его в великой скорби: у князя был некий человек, очень любимый им, добродетельный и боголюбивый, который всегда давал ему полезные советы, имя его было Матвей, а отчество Варнавин. Сын же князя ненавидел его, ибо тот давал отцу не такие советы, как он хотел, и поэтому приказал одному из своих слуг убить его. Князь же об этом ничего не знал. Когда убили Матвея, всесильный Бог захотел отомстить за кровь праведного, возопившую к нему от земли, как в древности ([возопил голос крови] – Р. Б.) Авелева. И поэтому сын князя, приказавший убить Матвея, вскоре внезапно умер. Также и убивший праведного по его приказу умер злой и неожиданной смертью. И мать того убийцы захотела на третий день по существующему обычаю принести дары в память о нем. Священник же облачился в одежды и послал за просфорами, желая начать проскомидию, чтобы принести дары об убийце. Пекущий просфоры открыл печь, чтобы взять их и отправить к священнику, и увидел печь, полную крови. Священник же и все бывшие с ним в великом страхе прославили Бога, отомстившего за кровь праведного, несправедливо пролитую, и поняли, какое наказание приняли убийцы праведного, ибо лишены они были всякой помощи»[11].
В Житии прп. Пафнутия Боровского данный рассказ Иосифа помещен после рассказа о явлении во сне о. Пафнутию недавно умершего брата Ивана III князя Юрия Васильевича († 12 сентября 1473 г.). В составе Волоколамского патерика между этими рассказами вклинились еще два недатированных рассказа о внутренней жизни Пафнутьева монастыря. На этом основании поездку Иосифа в Воротынск следует датировать периодом с конца 1473 г. до смерти Пафнутия Боровского († 1 мая 1477 г.). Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников справедливо указали, что в рассказе речь идет о князе Федоре Львовиче Воротынском[15]. Действительно, князь Федор Львович Воротынский был жив еще осенью 1480 г., когда «царь (Ахмат.– Р. Б.) был на Угре»[19].10 апреля 1483 г. потомки князя Федора Львовича заключили с Казимиром новое докончание о своей службе Литве[22]. В договоре названы князья Дмитрий и Семен Федоровичи, которые, таким образом, после смерти отца еще оставались живыми, а, значит, не могли быть причастными к убийству Матвея Варнавина[23]. Также назван их «братанич» (сын их брата) князь Иван Михайлович. При заключении договора он уже мог самостоятельно целовать крест, т. е. достиг возраста 12 лет, следовательно, родился не позднее начала 1471 г. Отец последнего князь Михаил был старшим сыном князя Федора Львовича[24], но к моменту заключения договора 1483 г. уже скончался. Следовательно, инициатором убийства Матвея Варнавина являлся именно князь Михаил Федорович.После смерти митрополита Григория († 1472 г.), приблизительно в апреле 1473 г. на митрополичью кафедру Великого княжества Литовского был выдвинут Смоленский владыка Мисаил. Тогда же было составлено послание папе римскому о его желании приобщиться к унии, и направлено в Рим через папского посла Антонио Бонумбре[62]. Как заметил Б. Н. Флоря, стремление некоторых представителей православного общества Великого княжества Литовского к возобновлению контактов с Римом было обусловлено их желанием достичь равноправия с католиками и получить соответствующие государственные привилегии. Вместе с тем сохранялась их приверженность к традиционному учению греческой Церкви. Однако православные инициаторы возобновления унии опирались не на сами решения Ферраро-Флорентийского собора, а на послание митрополита Исидора 1439 г., в котором не отразились уступки греков по догматическим вопросам. Они имели очень слабое представление о том, на какие перемены им придется пойти, и оказались к ним совсем не готовы. Их униатские инициативы не в полной мере соответствовали положениям Флорентийской унии 1439 г., а потому наталкивались на возражения католиков и потерпели неудачу[63]. Видимо, в этой связи ответ папы на письмо Мисаила затягивался.
Тем временем, канонического утверждения Мисаила в роли митрополита не происходило. В начале 1476 г. из Константинополя в Литву пришел законно поставленный православный митрополит Спиридон, но был схвачен королем Казимиром и помещен в тюрьму. В марте 1476 г. владыка Мисаил и его сторонники направили новое послание к папе, которое также не получило желаемого ими продолжения[64]. К началу 1480‑х гг. Мисаил умер, а конфессиональная политика Казимира зашла в тупик. Добиться унии с Римом не удалось, а попытки разорвать связи с Константинополем наталкивались на упорное сопротивление влиятельных кругов православного общества Великого княжества Литовского[65].
Исследователи не раз отмечали, что круг авторов послания к папе 1476 г. был довольно узким. Однако в части Смоленской земли его представительство оказалось весьма солидным. Сам владыка Мисаил до своей смерти сохранял за собой управление Смоленской епископией. Именно ему подчинялся ряд волостей, расположенных в верховьях реки Болвы внутри владений князя Федора Львовича Воротынского. Сторонником унии выступал и князь Дмитрий Вяземский, старший в роду вяземских князей[66]. В то время зять владыки Мисаила Богдан Семенович Сопега был господарским писарем[67]. Он вместе с братьями по наследству владел городом Опаковом[68] на реке Угре, который располагался недалеко от Воротынска. Все это были старые знакомые князя Федора Львовича. Еще отец Богдана – Семен Сопега, будучи господарским писарем, в 1448 г. составлял грамоту Казимира о пожаловании воротынскому князю упомянутых земель в верховьях рек Угры, Болвы и Снопоти[69].
Следует полагать, что именно с апреля 1473 г. в среде смоленских феодалов стала настойчиво распространяться идея о приобщении к унии. Однако она встретила сопротивление у значительной части духовенства Великого княжества Литовского, связанных с ним князей и бояр, и тем более вызывала отторжение у духовенства Московской митрополии. Заключение в тюрьму православного митрополита Спиридона и подготовка к новому посланию папе в начале 1476 г., видимо, еще больше накалили обстановку. Эти события не могли пройти мимо князей, бояр и церковных иерархов Смоленской земли и Верхнего Поочья. Именно на этом историческом фоне в семье воротынских князей произошли описанные драматические события. Думается, не случайно прп. Иосиф Волоцкий подчеркивал несогласие князя Михаила Федоровича с позицией местного православного духовенства и духовенства Московской митрополии. Тем самым Иосиф, вероятно, включал князя Михаила Воротынского в число сторонников Смоленского владыки Мисаила с их планами приобщиться к унии. В их устремлениях можно усмотреть тот самый грех, который они еще не совершили, но желали совершить. Согласно библейской истории, именно недобрые помыслы Каина, от которых он не желал отступаться, привели его к совершению убийства.
На языке оригинала князь Михаил Федорович умер «напрасной» смертью[70]. В переводе Л. А. Ольшевской – «внезапной», «неожиданной». Она страшна тем, что наступила без покаяния за совершенное преступление (убийство Матвея Варнавина), что необратимо отягощало его душу перед Богом, поскольку после смерти покаяния нет. Примечательно, что в ряде синодиков среди записей о поминовении князя Федора Львовича Воротынского и его сыновей князей Дмитрия и Семена, его старший сын князь Михаил не упоминается[71]. Во вкладной книге Анастасова монастыря жена князя Михаила княгиня Евфросиния записана как «инока схимница»[72]. Многие, например белёвские и одоевские княгини, принимали монашеский постриг (иночество) перед смертью[73]. Однако княгиня Евфросиния не только стала монахиней, но затем приняла и схиму, т. е. высшую степень монашества, которая предписывала соблюдение строгих правил при ее жизни. Она совершала свой монашеский подвиг при живом сыне-наследнике, хотя при нем могла бы иметь защиту и до старости жить светской жизнью. Вероятно, ее схима была вынужденным шагом, вызванным необходимостью замаливать грех мужа. И только позже потомки князя Михаила Федоровича стали поминать своего предка 37. Таким образом, «напрасную» смерть князя Михаила Воротынского следует датировать периодом с конца 1473 г. до апреля 1477 г. (с начала униатской политики Смоленского владыки Мисаила до смерти прп. Пафнутия Боровского) или более узко: с начала 1476 г. до апреля 1477 г. (с момента обострения борьбы Смоленского владыки Мисаила с митрополитом Спиридоном до смерти прп. Пафнутия Боровского). Обе датировки согласуются с расположением интересующего нас рассказа в Волоколамском патерике.
Ж.: ИН. ЕВФРОСИНИЯ
[9] Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988. С. 204–208, 294–295. Также см.: Дмитриева Р. П. Досифей Топорков (Вощечников) // Словарь книжников и книжности древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1. А–К. Л., 1988. С. 201–203; Лурье Я. С. Патерик Волоколамский // Словарь книжников и книжности Древней Руси.Вып. 2. Ч. 2: Л–Я. Л., 1989. С. 163–166. О датировке составления патерика также см.: Древнерусские патерики... С. 330–332.
[10] Древнерусские патерики. С. 327; Лурье Я. С. Вассиан Санин // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 1. А–К. Л., 1988. С. 125–126.
[11] Древнерусские патерики. С. 204–205.
[19] Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. Т. 1 (с 1487 по 1533 год). // Сборник Императорского русского исторического общества (далее – СИРИО). Т. 35. СПб., 1892. С. 136.
[22] АЗР. Т. 1. № 80. С. 100–101.
[23] Согласно литовско-воротынскому договору 1483 г., князья Дмитрий и Семен Федоровичи входили в корпорацию князей новосильских, одоевских и воротынских (АЗР. Т. 1. № 80. С. 100). В последний раз они упомянуты в марте 1498 г., и в то время, видимо, были старшими в роду новосильских князей (СИРИО. Т. 35. С. 247, 249). К 1504 г. Воротынск, видимо, как выморочный, отошел в собственность Ивана III (ДДГ. № 89. С. 355; Зимин А. А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV–XV вв. // Проблемы источниковедения. Вып. 6. М., 1958. С. 319–320). Возможно, они умерли уже к апрелю 1500 г., когда Иван III отвечал Менгли-Гирею, что «одоевскихъ князей болшихъ (старших.– Р. Б.) не стало» (Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Нагайскою Ордами и с Турцией. Т. 1 (с 1474 по 1505 год, эпоха свержения монгольского ига в России) // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 41. СПб., 1884. С. 306).
[24] Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. СПб., 1906. С. 51–53.
[62] Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 241.
[63] Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 241–244, 277–278, 422.
[64] Макарий (Булгаков), митр.Указ. соч.Кн. 5. С. 40–50; Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 241–252.
[65] Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 253.
[66] Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 248; Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов. Ч. 1. Т. 7. Киев, 1887. С. 199.
[67] О родстве владыки Мисаила с Богданом Сопегой см.: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 3. СПб., 1848. № 101. С. 231, 233. О службе Богдана Сопеги господарским писарем см.: Груша А. I. Канцырярыя Вялiкага княства Лiтоўскага 40‑х гадоў XV – першай паловы XVI ст. Мiнск, 2006. С. 144, 176–177.
[68] Lietuvos metrika. Kn. 6 (1494–1506): Užrašymų knyga 6 / Parengė Algirdas Baliulis. Vilnius, 2007 (далее – LM. Kn. 6). № 243. P. 168.
[69] LM. Kn. 3. P. 37.
[70] Древнерусские патерики... С. 100.
[71] См. 2 опубликованных синодика Киево-Печерской лавры и синодик Воротынского Спасского, что на устье Угры монастыря (ГолубевС.Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия). Приложение. С. 31; Поменник Введенської церкви в Ближних Печерах Киево-Печерської Лаври / Упорядкування та вступна стаття Олексiя Кузьмука // Лаврьский альманах. Вип. 18. Київ, 2007. С. 26; Леонид [Кавелин], иером. Церковно-историческое описание упраздненных монастырей, находящихся в пределах Калужской епархии // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1863. Кн. 1. I. Исследования. С. 105–106).
[72] Троицкий Н. И. Указ. соч. С. 278; Леонид [Кавелин], иером. Церковно-историческое описание… С. 167.
[73] Кашкаров В. М. Синодик Покровского Доброго монастыря // Известия Калужской ученой архивной комиссии 1898 год. Вып. 2. Калуга, 1898. С. 25–26; Беспалов Р. А. Основание белёвского Спасо-Преображенского монастыря и белёвские удельные князья по монастырскому синодику // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 3. Тула, 2008. С. 285.
Литература: Беспалов Р. А. О «напрасной» смерти князя Михаила Федоровича Воротынского.
3/1. КН. ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1483,1496)
второй сын князя князя Федора Львовича и Марии Корибутовны Северской, дочери князя Дмитрия-Корибута Ольгердовича, князя Новгород-Северского. После смерти Фёдора Львовича Воротынское княжество была разделено между его тремя сыновьями: Михаилом, Дмитрием и Семеном. В 1470–80‑е годы служилый князь в Великом княжестве Литовском (ВКЛ), позднее перешел на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу с тем же статусом, сохранив и отчасти увеличив родовые земли.
10 апреля 1483 г. воротынские князья Дмитрий, Семен и их племянник Иван
Михайлович возобновили свои отношения с Литвой, заключив договор с Казимиром IV по
«Витовтову докончанию» 38. Следовало бы ожидать, что вслед за этим они станут
переоформлять свои права на свои прежние литовские «пожалования», а также будут
претендовать на административную должность козельского наместника. В реестре актов
архива Радзивиллов под 6996 (1488) г. сохранилась запись: «List kniazia Dmitra
Worotyńskiego ktorym się zapisuię z zamkiem Kozielskim onemu danym krolowi Kazimierzowi do
Litwy dany w Wilnie dnia 12 marca z piecięcią małą wiszącą» 39. Из этой записи становится
очевидным, что с 1483 г. козельским наместником был не князь Дмитрий Федорович
Воротынский (старший в роду воротынских князей), иначе ему бы не пришлось повторно
вступать в эту должность в 1488 г. Если до начала 1480‑х гг. Козельск находился под
властью князя Федора Львовича Воротынского, то не исключено, что фактически им мог управлять его старший сын князь Михаил Воротынский, который умер около 1473–1477 гг. 40 В таком случае к началу 1480‑х гг. на козельское наместничество по наследству мог претендовать князь Иван Михайлович Воротынский (Перемышльский) – сын князя Михаила Федоровича и внук князя Федора Львовича. Тем самым предположительно можно объяснить, почему Козельск не оказался в руках князя Дмитрия Федоровича сразу после смерти его отца князя Федора Львовича. До августа 1487 г. князь Иван Михайлович перешел на московскую службу 41, после чего на козельское наместничество стал претендовать князь Дмитрий Воротынский, и официально получил его 12 марта 1488 г.
Во второй половине 1480‑х гг. в Верхнем Поочье между Москвой и Литвой шла
порубежная война. Князь Дмитрий Воротынский честно исполнял свою службу Литве и упорно сопротивлялся московским войскам. Дмитрий Воротынский владел Воротынском совместно с братом Семеном. Вначале братья Дмитрий и Семен Воротынские, верно служа Великому княжеству Литовскому, совершали разорительные набеги на соседние московские владения. В конце 1488 года отряд князей Воротынских совершил набег на Медынскую волость. Весной 1489 года одиннадцать московских воевод осадили Воротынск. Князья Дмитрий и Семен Воротынские руководили обороной своей столицы. Русские полки не смогли взять Воротынск, но сожгли городской посад и разорили окрестности, захватив в плен много местных жителей. Но к декабрю 1489 г. князь Дмитрий Фёдорович Воротынский со своим уделом перешёл из Литвы на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу (1462—1505). 22 декабря 1489 года Дмитрий Воротынский отправил в Вильно вместе с московским посольством прошение о снятии крестного целования, которым был скреплена вассальная присяга 42. Великий князь Литовский, Казимир, жаловался тогда что Дмитрий перешел с уделом своего брата, князя Семёна, всю казну последнего взял себе, бояр и всех слуг также захватил и насильно заставил служить себе. В 1490 году великий князь литовский Казимир Ягеллон приказал конфисковать у князя Дмитрия Воротынского города Серенск и Бышковичи.
Дмитрий Воротынский принял активное участие в Русско-литовской войне 1487—1494 годов. Великий князь Литовский, Казимир Ягеллончик, жаловался тогда что Дмитрий Воротынский на московскую службу перешёл с уделом своего брата, князя Семёна, всю казну последнего взял себе, бояр и всех слуг также захватил и насильно заставил служить себе. Кроме того, Дмитрий Фёдорович Воротынский также захватил несколько пограничные литовских городков и волостей. Были захвачены городки Серенск и Бышковичи, волости Лычино и Недоходов. В 1492 года князь Семен Федорович Воротынский, родной брат Дмитрия, со своим уделом перешёл из Литвы в московское подданство. В том же 1492 году по распоряжению великого князя московского Ивана III Васильевича князья Дмитрий и Семен Фёдоровичи и Иван Михайлович Воротынские совершили поход против князей Мосальских, сохранявших верность великим князьям литовским. Князья Воротынские захватили и сожгли город Мосальск.
В январе-феврале 1493 года великий князь московский Иван III Васильевич организовал большой поход на пограничные литовские владения. Русская рать, состоящая из пяти полков, под предводительством князя Михаила Ивановича Колышка-Патрикеева, вторглись в литовские территории и захватила города Мезецк, который сдался добровольно, Серпейск и Опаков, которые были осаждены, взяты штурмом и сожжены. Верховские служилые князья Дмитрий и Семен Фёдоровичи Воротынские со своими дружинами участвовали в походе русской рати.
В феврале 1494 года в Москве был заключен вечный мир между Русским государством и Великим княжеством Литовским. Новый великий князь литовский Александр Казимирович (1492—1506), сын и преемник Казимира Ягеллончика, вынужден был признать переход большинства верховских князей, в том числе и Дмитрия Федоровича Воротынского, вместе с их уделами на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу. Перейдя на московскую службу, князь Дмитрий Федорович сохранил власть над Козельском, и фактически город оказался под верховной властью Москвы. По этому поводу, король Казимир IV через своих послов заявил протест. Он указал, что московские люди не должны вступаться в Козельск, на который есть «особная грамота», то есть договор Казимира IV с Василием II середины XV в. В ответ Иван III предъявил более ранние московско-литовские договорные грамоты. Из них следовало, что по прежнему соглашению сторон Козельск со всеми козельскими местами должен принадлежать Москве. Литовским послам были даны разъяснения, что по той «особной грамоте» город предназначался «на обыск», и сторона, проигравшая в этом споре, должна была отступиться от Козельска «по старине»: «а восе та грамота особная о Козельску» 43. Интересно, что по многим другим спорным вопросам литовско-московские переговоры продолжались годами. Но по поводу Козельска аргументы московской стороны, видимо, были настолько убедительны, что никаких возражений от Литвы больше не последовало.
В развернувшейся войне Великое княжество Литовское терпело поражение и теряло инициативу на дипломатическом поприще. Великий князь литовский Александр вынужден был просить мира у Ивана III. В ноябре 1493 г. был составлен наказ литовским послам о том, как им вести переговоры о мире с московской стороной. В частности, выдвигались требования, чтобы Иван III отступился от Твери, но если он того не пожелает, то взамен пусть отдаст Козельск, а также вотчины князей мезецких (мищовских) и князя хлепенского 44. Однако на переговорах 23 января 1494 г. литовская сторона сама отказалась от притязаний на Тверь, а требования о Козельске так и не выдвигались 45. 5 февраля был заключен договор о мире, по которому Козельск со всеми козельскими местами впредь должен был принадлежать Москве 46. На московской службе князь Дмитрий Воротынский не был ущемлен, и сохранил за собой козельское наместничество. Согласно посольским книгам, к началу 1494 г. князь Дмитрий Воротынский имел власть над волостьми, которые «потянули к Козельску» 47.
К началу 1494 г.князь Дмитрий Федорович Воротынский волости Кцин(ь) «да Хвостовичи» держал и звал «себе вотчиною» 48. Волость Кцин(ь) была значительно удалена от Воротынска к юго-западу и локализуется по с. Кцынь на р. Рессета (правый приток р. Жиздра). Кцин(ь) находилась между Карачевом и Козельском и очевидно первоначально относилась к числу волостей Карачево-Козельского княжества49. Волость Хвостовичи, возможно, к концу XV в. выделилась из волости Кцин(ь), так как современное с. Хвастовичи находится к юго-западу от с. Кцынь50. В мае 1497 г. литовский великий князь Александр писал великому князю Ивану III о нападении князя Д. Ф. Воротынского на села Смоленского повета «на имя Местилово, а Кцинь, а Хвостовичи», пожалованные к тому времени литовским великим князем Семену Ивановичу Можайскому51. В своей грамоте великий князь Александр сообщал, что эти села «подавал был князю Ивану Одоевскому, а потом детем его князю Михаилу а князю Феодору» еще король Казимир52. После смертей князей Михаила и Федора Ивановичей Одоевских села были отданы во владение князю С. И. Можайскому, вероятно, в 1496 г.53 Однако московский служилый князь Д. Ф. Воротынский считал, что «те волости… издавна его», и не уступил их литовским наместникам54. Вероятно, Кцинью, как и Одоевым, они владели по долям (жеребьям)55.
В 1496 году Дмитрий Федорович Воротынский вместе с братом Семеном и племянником Иваном Михайловичем принимал участие в войне со Швецией (1495—1497) и в 1496 году участвовал в походе русского войска против шведов под Выборг.
Около 1498–1499 гг. он умер. В последний раз князь Дмитрий Воротынский упоминается в живых в марте 1498 г. 56. К августу 1499 г. козельским наместником был уже великокняжеский воевода Петр Михайлович Плещеев 57. Основал Спасо-Преображенский Воротынский монастырь. После смерти Дмитрия Федоровича его треть Воротынска перешла во владение великому князю московскому Ивану III Васильевичу, который завещал её своему сыну Юрию Ивановичу Дмитровскому. После 1499 года единственным представителем рода остался их племянник — И. М. Воротынский (? ‑1535).
Ж.: КНЖ. АННА КОНСТАНТИНОВНА ПРИХАБСКАЯ (1511), дочь князя Константина Ивановича Прихабского-Бабич-Друцкого, от брака с которой не имел потомства.
бездетн.
4/1. КН. СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1483, †1497)
кн.Воротынск() кн.Мосальск() полк.воев.(1496) 3С:Фед.Юр. :Мария.
сын Федора Львовича Воротынского и Марии Корибутовны, княжны Новгород-Северской. После смерти своего отца Федора Львовича Воротынского его сыновья Михаил, Дмитрий и Семен унаследовали Воротынское княжество. Каждый из трех братьев владел третью Воротынска. 10 марта 1483 года Семён Фёдорович Воротынский вместе с братом Дмитрием и племянником Иваном Михайловичем принес вассальную присягу на верность королю польскому и великому князю литовскому Казимиру Ягеллону. Кроме трети Воротынска, Семену Федоровичу принадлежали городки Мосальск, Серпейск, Залидов, Городечна, Лучин и Опаков.
Вначале братья Семен и Дмитрий Федоровичи Воротынские верно служили великому князю литовскому Казимиру Ягеллончику, совершали разорительные набеги на пограничные московские земли. В конце 1488 года князья Воротынские совершили набег «с знамяны и и трубами» на Медынскую волость. Весной 1489 года великий князь московский Иван III Васильевич (1462—1505) организовал ответный поход на Воротынское княжество. Одиннадцать русских воевод под командованием князя Василия Ивановича Патрикеева вторглись в литовские пограничные владения и осадили Воротынск. Братья Дмитрий и Семен Воротынские руководили обороной своей удельной столицы. Русские воеводы не смогли захватить Воротынск, но сожгли посады и разорили городские окрестности, захватив много пленников.
Сын кн. Федора, Семен Воротынский, помимо унаследованных от отца волостей, получил еще от короля волость Мощин 58. В том же Смоленском повете находились села, пожалованные князьям Одоевским — Ивану Юрьевичу и его детям Михаилу и Федору (Местилово, Кцинь, Хвостовичи, Чернятичи и др.) 59; в Деменской волости Федор и Семен (отец и сын) Воротынские пожаловали село своему слуге Ивану Широкому, выдав последнему на это село жалованную грамоту 60. Князья Одоевские раздавали села смоленским боярам, скрепляя пожалования «листами» (грамотами) 61; в одной из позднейших подтвердительных грамот упомянуто, что смоленский боярин Боран Яковлевич «выслужыл сельца и з людми в Болваничох и в Велику на князи Михаиле и на брате его, на князи Федоре Ивановичы Одоевских» 62. При Казимире бояре кн. Воротынских получали пожалования и от господаря: позднее Семен Воротынский, слагая с себя крестное целованье литовскому господарю, упрекал великого князя Александра в том, в частности, что тот посланного к нему княжеского боярина «не жаловал, не чтил, как отець твой (Казимир. — М. К.) наших бояр жаловал, чтил» 63. Слова князя Семена находят документальное подтверждение в Литовской метрике: здесь сохранилась запись, относящаяся, вероятно, к 1486 г., о пожаловании жеребца боярину кн. Дмитрия Воротынского, Левше 64. Воротынские располагали, можно предположить, внушительными отрядами вооруженных слуг — судя по их набегам на соседние территории в 80–90‑х гг. XV в. В посольской книге под 1488 г. описан один из таких набегов «людей» кн. Дмитрия и Семена Воротынских на медынские волости — «з знамями и с трубами войною» 65. Перечислены и старшие над теми людьми (воеводы?): Иван Шепель, Иван Бахта, Федор Волконский, Звяга Иванов и Сеня Павлов 66. Упомянутый здесь Федор Волконский, вполне возможно, принадлежал к измельчавшему роду князей Волконских. Впоследствии, уже после перехода на службу к Ивану III, князья Воротынские «с своими полки» упоминаются в разрядах походов 1490‑х гг.
В декабре 1489 года князь Дмитрий Федорович Воротынский, брат Семена, перешёл со своим уделом на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу. Дмитрий Федорович перешёл в московское подданство «со всею своею отчиною» и захваченной им «дольницей» своего брата Семена, который сохранял верность вассальной присяге на верность Казимиру. Дмитрий Федорович Воротынский силой отобрал у своего брата Семена удел, а также захватил его казну и заставил его бояр и слуг перейти к себе на службу. Семен Федорович Воротынский сохранял верность великому князю литовскому Казимиру Ягеллону до самой его смерти в июне 1492 года.
В августе 1492 года великий князь московский и государь всея Руси Иван III Васильевич организовал крупный поход на пограничные литовские владения. Первое русское войско под командование князя Федор Телепня-Оболенского захватило города Мценск и Любутск. Горда были разорены и сожжены. В плен были взяты мценские и любутские бояре. В это же время второе войско во главе с Василием Лапиным и Андреем Истомой захватило городки Хлепень и Рогачёв. В сентябре князья Иван Михайлович Перемышльский и Одоевские захватили Мосальск, взяв в плен местных мосальских князей.
В конце 1492 года Семен Федорович Воротынский со своим удельным княжеством перешёл на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу. Согласно литовскому источнику, его принудил к этому родной брат Дмитрий Федорович Воротынский. В своей грамоте к новому великому князю литовскому Александру Казимировичу Семен Федорович Воротынский объяснил свой переход на московскую службу тем, что Великое княжество Литовское не смогло защитить его владений. Семён Воротынский перешёл в московское подданство не только с владениями, некогда пожалованными ему великим князем литовским Казимиром (города Городечня и Лучин-Городок с волостьми), но также и захватил города Серпейск и Мезецк. В том же 1493 году братья Дмитрий и Семен Федоровичи Воротынские совершили поход на Мосальское княжество, князья которого сохраняли верность Великому княжеству Литовскому. Князья Воротынские захватили, разорили и сожгли Мосальск.
В начале 1493 года великий князь московский Иван III Васильевич организовал большой поход на пограничные литовские владения. Русская рать, состоящая из пяти полков, под предводительством князя Михаила Ивановича Колышка-Патрикеева, вторглись в литовские территории и захватила города Мезецк, который сдался добровольно, Серпейск и Опаков, которые были осаждены, взяты штурмом и сожжены. Верховские служилые князья Семен и Дмитрий Фёдоровичи Воротынские со своими дружинами участвовали в походе русской рати.
В феврале 1494 года в Москве был заключен вечный мир между Великим княжеством Московским и Великим княжеством Литовским. Новый великий князь литовский Александр Ягеллон (1492—1506), сын и преемник Казимира Ягеллончика, вынужден был признать переход большинства верховских князей, в том числе и Семена Федоровича Воротынского, вместе с их уделами на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу.
В 1496 году из своей болезни князь Семен Федорович Воротынский не смог принять участие в войне Русского государства со Швецией (1495—1497). В походе русской рати на Выборг участвовали его брат Дмитрий Федорович и племянник Иван Михайлович Воротынские со своими дружинами.
[РК – 98. С. 22.РК – 98. С. 27.; Кром М. М. «Меж Русью и Литвой» (Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца 15 — первой трети 16 в.)].
Среди поминаемых лиц в роду князей Сангушко в синодике Киево-Печерского монастыря встречался князь Семен Федорович Вортынский67.
КНЖ. /....../ ФЕДОРОВНА
М.: 1448 КН. ИВАН АНДРЕЕВИЧ МОЖАЙСКИЙ
КНЖ. ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА ВОРОТЫНСКАЯ
МУЖ: КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЯРОСЛАВИЧ
КНЖ. АННА ФЕДОРОВНА ВОРОТЫНСКАЯ
М.: КН. ИВАН ЛОСКИЙ
КНЖ. ФЕОДОСИЯ ФЕДОРОВНА
М.: КН. ЛЕВ БУЙНИЦКИЙ
генерация от Рюрика
5/2. КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ПЕРЕМЫШСКИЙ И ВОРОТЫНСКИЙ (1483, †1535.07.21, † Троицк.Серг.м‑рь)
— удельный князь из рода Воротынских, крупный русский военачальник, московский воевода, «слуга» и боярин, единственный сын удельного князя Михаила Фёдоровича Воротынского и его супруги Евфросинии.
10 апреля 1483 г. потомки князя Федора Львовича заключили с Казимиром новое докончание о своей службе Литве[1]. В договоре названы князья Дмитрий и Семен Федоровичи, а также их «братанич» (сын их брата) князь Иван Михайлович. При заключении договора он уже мог самостоятельно целовать крест, т. е. достиг возраста 12 лет, следовательно, родился не позднее начала 1471 г. Отец последнего князь Михаил был старшим сыном князя Федора Львовича [2], но к моменту заключения договора 1483 г. уже скончался.
Осенью 1487 года знатный удельный князь Иван Михайлович Перемышльский со своим удельным княжеством перешёл из литовского в московское подданство. Иван Михайлович Перемышльский начал пограничную войну с другими верховскими князьями, продолжавшими сохранять верность Великому княжеству Литовскому. Вслед за ним на русскую службу перешли его дядья Дмитрий Федорович Воротынский (в декабре 1489 года) и Семен Федорович Воротынский (в конце 1492 года). Князья Воротынские сложили с себя присягу на верность великому князю литовскому Казимиру Ягеллону и вместе со всеми своими городками и землями в верховьях Оки перешли на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу.

В дальнейшем Иван Михайлович Перемышльский-Воротынский участвовал во многих походах как московский воевода. Так, в августе 1492 года в ходе русско-литовской войны 1487—1494 годов возглавлял вместе с князьями Одоевскими дружины, захватившие литовские пограничные города Мосальск и Серпейск. в январе-феврале 1493 года князь Иван Михайлович Перемышльский со своими дядьями Дмитрием и Семеном Федоровичами участвовал в большом походе московской рати под предводительством князя Михаила Ивановича Колышко-Патрикеева на литовские пограничные владения. Московские полки захватили городки Мезецк, который сдался добровольно, Серпейск и Опаков, которые были взяты штурмом и разорены.
В январе 1496 года князь Иван Михайлович Воротынский со своей удельной дружиной участвовал в составе русской рати под командованием князя Василия Ивановича Косова и Андрея Федоровича Челяднина в походе на шведскую Финляндию.
После смерти бездетных князей Дмитрия и Семена Федоровичей Воротынских, родных дядьев Ивана Михайловича Перемышльского, их выморочные трети Воротынского удела (городки Серпейск, Залидов, Опаков и Лучин) отошли к великому князю московскому Ивану III Васильевичу, который завещал их своим детям Василию, Юрию и Дмитрию.
Осенью 1499 года князь Иван Михайлович Воротынский совместно с князьями Одоевскими разгромил в бою под Козельском татарские отряды.
В 1500–1503 годах верховский князь Иван Михайлович Воротынский принимает деятельное участие во второй русско-литовской войне. Летом 1500 года князь Иван Михайлович Воротынский командовал татарскими вспомогательными отрядами в составе русской рати под командованием князя Даниила Васильевича Щени-Патрикеева. В июле 1500 года в битве под Ведрошей князь Иван Михайлович Воротынский, четвёртый воевода полка правой руки, командовал татарскими отрядами и сыграл большую роль в разгроме литовской рати под командованием великого гетмана литовского князя Константина Ивановича Острожского. За военные заслуги Иван Михайлович Воротынский получил от великого князя московского Ивана III Васильевича высокое и почетное положение «слуги».
Осенью 1501 года князь Иван Воротынский вместе с князем Петром Семеновичем Ряполовским командовал передовым полкомв русской рати под командованием северских удельных князей Василия Ивановича Шемячича и Семена Ивановича Стародубского. Русские полки вторглись в пограничные литовские владения и 4 ноября в битве под Мстиславлем разгромили литовское войско под предводительством князя Михаила Ивановича Ижеславского и воеводы Евстафия Дашкевича. Литовцы были разбиты, потеряв около семи тысяч человек убитыми и все знамена. Однако московские воеводы не смогли взять Мстиславль и ограничились разорением его окрестностей.
В декабре 1502 года князь Иван Михайлович Воротынский был вторым воеводой передового полка русского войска под предводительством северских князей Василия Иановича Шемячича и Семена Ивановича Стародубского, отправленного в новый поход на литовские владения.
При новом великом князем московском Василии III Ивановиче (1505—1533) он занимал высокое положение «слуги», что позволяло ему сохранить остатки былой независимости. Летом 1507 года князь Иван Михайлович Воротынский отличился при отражении крымско-татарского набега на южнорусские города Белёв, Одоев, Козельск и Калугу. Соединившись с отрядами князей Василия Семеновича Швиха Одоевского и Александра Ивановича Стригина-Оболенского, Иван Воротынский а августе1507 года разбил крымские отряды в битве на реке Оке и преследовали их до реки Рыбницы, правого притока Оки.
Осенью 1507 года князь Иван Михайлович Воротынский принял участие в третьей русско-литовской войне (1507—1508 гг.). В сентябре Иван Михайлович Воротынский был вторым воеводой передового полка в русской рати под командованием северских князей Василия Ивановича Шемячича и Василия Семеновича Стародубского, отправленной в поход на пограничные литовские владения. В мае 1508 года он участвовал в новом походе на Литву во главе передового полка русской рати во главе с князем Василием Ивановичем Шемячичем. Осенью того же 1508 года Иван Воротынский был вторым воеводой передового полка в большом походе на литовские пограничные владения.
В 1510—1511 годах князь Иван Михайлович Воротынский возглавляет большой полк в Туле и охраняет южные русские рубежи от набегов крымских татар. В следующем 1512 году в летнем походе на Угру Иван Воротынский был воеводой передового полка. В походе из Козельска в Калугу он возглавлял большой полк. В конце 1512 года во время первого Смоленского похода Иван Михайлович Воротынский прибыл в Можайск и участвовал в походе на Смоленск, будучи третьим воеводой передового полка (после князей Василия Семеновича Стародубского и Василия Васильевича Шуйского). Во время третьего похода на Смоленск в 1514 году князь Иван Михайлович Воротынский находится в Туле в рати князя Александра Владимировича Ростовского первым воеводой передового полка, защищая южные русские границы от возможных татарских набегов. Из Тулы Иван Воротынский был отправлен под Смоленск и участвовал в осаде города. В 1515 году И. Воротынский стоит с передовым полком на «Вошане», защищая южные границы. В 1516, 1517 и 1519 годах князь Иван Михайлович Воротынский с передовым полком обороняет южные русские границы. В благодарность за победу над крымскими татарами под Тулой в 1517 году, Воротынкий основывает Богородице-Рождественский Анастасов монастырь близ Одоева.
В 1519 году князь Иван Михайлович Воротынский участвовал в большом походе русской рати под командованием наместника владимирского, боярина князя Василия Васильевича Немого Шуйского, вглубь Великого княжества Литовского. Русские воеводы разорили окрестности Орши, Могилева, Борисова, Минска, Радошковичей, Молодечно, Крево, Медников и Вильно.
В 1521 году, во время большого набега крымского хана Мехмед Герай на земли Русского государства, князь Иван Михайлович Воротынский был воеводой в Тарусе, а потом стоял в Серпухове при боярине князе Михаиле Даниловиче Щенятеве. В июле-августе крымская орда разгромила небольшое русское войско в битве под Коломной, переправилась через Оку и подошла к окрестностям Москвы, разорив южнорусские уезды и захватив огромное количество пленных. Великий князь московский Василий III Иванович бежал из своей столицы в Волоколамск. После отступления крымской орды и возвращения великого князя в Москву некоторые русские воеводы попали в опалу. Среди них находился и князь Иван Михайлович Воротынский, который был обвинен в измене. 17 января 1522 года по приказу великого князя московского верховский служилый князь Иван Воротынский был арестован и заключен в
темницу. В тюремном заключении Иван Михайлович Воротынский провёл три года.
В феврале 1525 года князь Иван Михайлович Воротынский дал запись на верность великому князю московскому Василию III Ивановичу, был помилован и освобожден из заключения. Ему вернули удельное княжество и все придворные чины. В качестве компенсации Иван Михайлович Воротынский получил в наследственное владение от великого князя московского три трети (части) в Одоевском княжестве, ранее принадлежавшие князья Одоевским. После прощения великий князь московский передал Ивану Михайловичу Воротынскому Старый Одоев с уездом и предоставил денежную помощь для восстановления городища.
Летом 1527 года князь Иван Михайлович Воротынский стоял с полками в своём Одоеве, а в мае 1529 года находился в Почепе. В июне 1529 года Иван Воротынский с полками пребывает в Серпухове, охраняя южные русские границы от набегов крымских татар и ногайцев.
В 1530 году князь Иван Михайлович Воротынский сопровождал боярина князя Дмитрия Федоровича Бельского в его службе «в поле». В январе 1531 года Иван Воротынский стоит с полками в Козельске, в феврале — в Туле, а летом — снова в Одоеве, но уже первым воеводой большого полка. Летом 1532 года Иван Михайлович Воротынский находится с полками в Серпухове, а в 1534 году во время похода великой княгини Елены Глинской на Коломну, князь Иван Воротынский был четвёртым воеводой большого полка.
Многие московские воеводы и бояре, недовольные правлением регентши Елены Васильевны Глинской, вступили в тайные переговоры с великим князем литовским и королём польским Сигизмундом Казимировичем Старым, планируя перейти на литовскую службу. Иван Михайлович Воротынский также намеревался перейти на литовскую службу вместе со своим удельным Новосильско-Одоевским княжеством.
Летом 1534 года крупные московские воеводы, князь Семён Федорович Бельский, окольничий Иван Васильевич Ляцкий и князь Богдан Александрович Трубецкой, со многими детьми боярскими отъехали из Серпухова в Великое княжество Литовское, где поступили на службу к великому князю Сигизмунду Казимировичу Старому. Князья Воротынские выехали из Москвы в свою удельную столицу Одоев, откуда также планировали перебраться в литовские владения. Однако московское правительство успело арестовать князя Ивана Воротынского с детьми.
Летом 1534 года за соумышленничество с отъехавшими на службу к великому князю литовскому московскими воеводами князь Иван Михайлович Воротынский вместе со своими сыновьями Владимиром, Михаилом и Александром был арестован. После розыска старший сын Ивана Воротынского Владимир был подвергнут торговой казни. Его вывели на площадь и избили батогами. После этого Иван Михайлович Воротынский, лишенный владений и чинов, был отправлен в ссылку в Белоозеро, где его заключили в темницу. 21 июля 1535 года Иван Михайлович Воротынский скончался в белоозерской темнице. Его сыновья Владимир, Михаил и Александр Ивановичи Воротынские позднее были освобождены из заключения и разделили между собой отцовское княжество, каждый из трех братьев получил во владение часть (треть) Новосильско-Одоевского княжества.
1493 г. на Литву с полком Воротынских. 1496 г. на Свею с полком Воротынских в ЛР.1500 г. на Ведроше в ПР «с Татары».1501 г. на Мстиславль П – 2.При Василии III он занимал высокое положение «слуги», что позволяло ему сохранить остатки былой независимости. В 1522–1525 гг. князь побывал в тюрьме за то, что Мохаммед-Гирей прорвался к Москве. После прощения великий князь передал И.М. Воротынскому Старый Одоев с уездом и предоставил денежную помощь для восстановления городища. В 1534 г. князь И.М. Воротынский участвовал в интриге против фаворита Елены Глинской, за что снова попал в тюрьму, где и умер.
21 марта 1518 г. князем Иваном был сделан вклад в Троицу 50 руб. 68.
Умер в заключении на Белоозере в 1535 г., а похоронен в Сергиевом монастыре 69.
Ж.: 1) КНЖ. АННА ВАСИЛЬЕВНА ШЕСТУНОВА дочь Василия Васильевича Керту Шестунова-Ярославского 70. Под 1518 г. отмечен вклад в Троице-Сергиев монастырь «его княгини» (так обычно говорилось именно о жене) Анны в 30 руб. 71.
Ж.: 2) АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА ЗАХАРЬИНА (†1522.03.27), дочь Ивана Захарьина Романова. В 1540 г. князь Владимир Иванович Воротынский с братьями дал по своей матери Настасье Захарьиной 50 руб. 72. Известен по ней вклад 100 руб. в Кириллов монастырь и их отца князя Ивана Михайловича. В кормовой книге Троицкого монастыря 1674 г. указаны имена Ивана Михайловича, его первой жены Анны и второй жены Анастасии Ивановны Захарьиной 73.
[1] АЗР. Т. 1. № 80. С. 100–101.
[2] Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. СПб., 1906. С. 51–53.
[РК – 98. С. 30.РК – 98. С. 33.РК – 98. С. 22.; РК – 98. С. 27; ]
генерация от Рюрика
6/5. КН. ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1535, † 27.9.1553,†Кирилло-Белозерск.м‑рь)
боярин(1550–1553) Член Избранной рады. Участник казанских походов. . 1С:Ив.Мих. :Анастасия.Ив. ЗАХАРЬИНА<РОМАНОВА>
боярин (не позднее мая 1551), М. И. Воротынский и Александр Иванович (? — 6.2.1565), боярин (не позднее 1560) — входили в высший слой русской титулованной придворной аристократии. В 1534 году они были сосланы вместе с отцом в заключение на Белоозеро, но до осени 1539 или февраля 1540 года прощены с возвращением статуса служилых князей и родового княжения (разделено между ними в начале 1540‑х годов).
Летом 1541 года они своими силами под Одоевом разбили отряды крымских «царевичей», прислав в Москву 45 пленных. В перечне членов двора при приёме литовских послов в Москве (март 1542) братья были зафиксированы в начале списка князей. В. И. Воротынский командовал различными соединениями (в том числе отрядами из владений Воротынских) на южной границе в 1543, 1544, 1546 (одновременно наместник в Вологде), в 1551 годах. В зимних Казанских походах возглавлял с касимовским ханом Шах-Али вспомогательное войско (1547–48) и был 2‑м воеводой большого полка (1549–1550). В 1552 — 1‑й воевода царского полка в военных действиях на южной границе против войск крымского хана Девлет-Гирея I, а также в походе на Казань (лично участвовал в заключительном штурме).1‑й воевода царского полка летом 1553 года. В 1552–53 входил в Ближнюю думу. В кризисные дни тяжёлой болезни царя Ивана IV Васильевича Грозного (11–13.3.1553) обеспечил принесение присяги колеблющимися членами Думы и принудил старицкого князя Владимира Андреевича к крестоцелованию на имя сына царя — младенца Дмитрия Ивановича. В. И. Воротынский и его жена Мария Ивановна, урождённая княжна Немого-Оболенская [? — 25.12.1588(4.1.1589)], делали крупные денежные вклады в Кирилло-Белозерский монастырь (вдова В. И. Воротынского в 1554 сделала земельный вклад в монастырь, передав ему свою приданную вотчину — село Тереботунь в Бежецком Верхе). Похоронен в Кирилло-Белозерском монастыре; на средства вдовы над его могилой возведена каменная Владимирская церковь, ставшая родовой усыпальницей Воротынских, что в 1573 году вызвало гнев царя Ивана IV, направленный против вдовы В. И. Воротынского и монастырских властей.
После побега в Литву князя С. Ф. Бельского в августе 1534 г. князя Владимира Воротынского водили по торгу и били «пугами» (Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 2. СПб., 1848. С. 333). В ящичке 134 Царского архива хранились «речи на князь Михайла Глинского и на князя Володимера Воротынского» 74. В марте 1542 г. во время приема литовских послов в Москве князья Владимир, Михаил, Александр Ивановичи Воротынские названы среди князей и детей боярских, которые в думе не живут, а при послех в избе были 75. Во время болезни царя Ивана Васильевича в марте 1553 г. стоял у креста, перед которым бояре приносили присягу на верность наследнику Дмитрию 76. В Тысячной книге боярин 77. Боярин в октябре 1550 г. 78, в мае 1551 г. (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С.132).
В 1542/1543 г. второй воевода в Серпухове. В 1545 г. воевода в Одоеве. В апреле 1546 г. в войске в Коломне князь В. И. Воротынский, второй воевода сторожевого полка, бил челом о местах на князя Ю. М. Булгакова, предводителя сторожевого полка 79. В апреле 1546 г. наместник в Вологде 80.
В декабре 1547 г. в Казанском походе командует Большим полком, а кн. Михаил – полком Правой руки. В декабре 1548 г. Владимир был воеводой Большого полка в Суздале вместе с кн. Д.Ф. Бельским [Разрядная книга, 1966, с. 109, 113, 121]. В августе 1549 г. он в чине боярина присутствовал на царских торжествах по случаю рождения у Ивана IV дочери Анны и ее крещения в Новодевичьем монастыре. Этот факт, установленный И.А. Жарковым по малоизвестной разрядной записи, уточняет cлужебную биографию кн. Владимира, обрисованную А.А. Зиминым, относившим его боярство к октябрю 1550 г. [Жарков И.А. Малоизвестная разрядная запись середины ХVI в. // Археографический ежегодник за 1961 год. М., 1962. С. 255–258, с. 256–257; Зимин А.А. Состав Боярской Думы в ХV–ХVI вв. // Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 41–87., с. 63–64, 83]. В думе он стал ближним боярином, наряду с кн. И.Ф. Мстиславским. В декабре 1551 г. кн. Владимир был недоволен тем, что ему «в других воеводах быть непригоже». На это царь предписал ему «быти по прежнему своему приговору: кто в болшом полку другой воевода, и тому до болшого воеводы правой руки дела и счёту нет, быти им без мест» [Разрядная книга, 1966, с. 109].
До 1588 г. в Суходровской волости Малоярославецкого уезда за князем В. И. Воротынским было поместье пустошь, что была деревня Костинская с пустошью (25 четвертей доброй земли) 81. 27 февраля 1540 г. князь Владимир Иванович Воротынский с братьями дали Троице-Сергиеву монастырю 50 руб. по матери княгине Настасье. 5 и 20 сентября 1547 г. он дал по первой жене княгине Марье 50 руб., дочери Ф.В. Лопаты Оболенского (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 48). В 1548/1549 г. князь В. И. Воротынский дал Кириллову монастырю 100 руб. В 1553/1554 г. князь М. И. Воротынский дал Кирилло-Белозерскому монастырю по брате князе Владимире Ивановиче 300 руб. Указана дата его преставления 27 сентября. Жена князя Владимира Воротынского княгиня Мария дала монастырю в Бежецкому уезде село Тереботун с 6 деревнями и сельцо Рычнево с деревней и пустошами и кабалу князя Д. И. Немого в 200 руб. Также Мария дал много ценны вещей, икон, утвари 82. В 1553/1554 г. князь М. И. Воротынский дал Кирилло-Белозерскому монастырю по брате князе Владимире Ивановиче Воротынском 300 руб. Жена князя Владимира Марья дала монастырю село Тереботун в Бежецком Верхе с 8 деревнями и 3 пустошами и кабалу князя Дмитрия Ивановича Немого в 210 руб., по которой он заложил половину села Тереботун. Просьба за вклад построить каменную церковь над гробом князя В. И. Воротынского в честь киевского князя Владимира. Сказано, что В. Воротынский умер 27 сентября 83. 27 сентября корм по князе В. И. Воротынском. Второй корм 15 июля. Дачи его Кирилло-Белозерскому монастырю в 1548/1549 г. и 1553/1554 г. на сумму в 400 руб. Его жена княгиня Марья дала по нему село Тереботун с деревнями и кабалу в 210 руб. на князя Дмитрия Немого. За этот вклад была поставлена церковь над гробом князя В. И. Воротынского. В дальнейшем церковь стала усыпальницей рода князей Воротынских. Княгиня Марья дала много ценных вещей монастырю 84. Князь В. И. Воротынский дал Иосифо-Волоколамскому монастырю в 1553/1554 г. 50 руб. 85. До 20 сентября 1554 г. его жена княгиня Марья дала на память о муже Кирилло-Белозерскому монастырю село Гдино (Дгино) в Городецком стане Кашинского уезда (рубежа). Ранее это село было за князем Василием Федоровичем Лопатиным и было им дано по душе Троице-Сергиеву монастырю. А у монастыря то село выкупил князь В. И. Воротынский. Марья была дочерью князя Ф. В. Лопатина и женой князя В. И. Воротынского. Князь В. И. Воротынский был похоронен в Кирилло-Белозерском монастыре. За вклад Марья приказала поставить каменную церковь в честь князя Владимира Киевского над его гробом. В 1553/1554 г. князь Дмитрий Иванович Курлятев Оболенский купил у брата князя Дмитрия Ивановича Немого Оболенского его вотчину в Городецком стане Бежецкого уезда половину села Тереботун, Хотеново с деревнями Ермолово, Медведково, Сонино и еще 14 деревнями, и деревню Попово (вопче с сестрою его княгиней Марьей) за 450 руб. 86. В 1553/1554 г. княгиня Марья дала Кирилло-Белозерскому монастырю в Бежецком уезде село Тереботун с деревнями Подлинная, Литвиново, Черная и еще 5 деревень и 3 пустоши (25,5 вытей) 87. В 1556/1557 г. княгиня Марья Воротынская дала Кирилло-Белозерскому монастырю свою вотчину в Городецком стане Бежецкого Верха, что выкупила у князя Дмитрия Ивановича Курлятева вотчину (село с деревнями было заложено в 150 руб.), ранее принадлежавшую его брату князе Дмитрию Ивановичу Немому Оболенскому половину села Хотеново с деревнями Ермолиново, Медветково, Сонино и еще 14 деревень 88.
Умер 27 сентября 1553 г. и похоронен в Кирилло-Белозерском монастыре 89.
Ж.: 1) МАРИЯ ФЕДОРОВНА ЛОПАТИНА-ОБОЛЕНСКАЯ († 1547), дочь князя Федора Васильевича Лопаты-Оболенского, двоюродная сестра князя Дмитрия Федоровича Овчинина Оболенского и дочь князя Федора Васильевича Лопаты Телепнева Оболенского, родная сестра князя Василия Помяса Федоровича Лопатина Оболенского 90. Супруга князя В. Ф. Лопатина Оболенского княгиня Марья была дочерью Андрея Михайлова сын Клеопина Кутузова 91. Другая дочь Андрея Клеопина, тоже Марья, с ноября 1553 г. была замужем за казанским царевичем Симеоном Касаевичем. Третья дочь вышла замуж за князя Федора Андреевича Куракина Булгакова (Архив РАН. Ф. 620. Оп. 1. Д. 44. Л. 416, 417). 20 сентября 1547 г. князь Владимир Иванович дал по ней вклад в Троицу 50 руб. 92.
Ж.: 2) КНЖ. МАРИЯ ДМИТРИЕВНА НЕМАЯ ОБОЛЕНСКАЯ (1554, 1564), дочь Дмитрия
Ивановича Немого-Оболенского. Она, унаследовав от умершего мужа половину Тереботунской вотчины, дала ее (с доклада царю, как того требовало уложение 1551 г.) по душе, князя Владимира Ивановича в Кириллов монастырь в 1554 г. Одновременно монастырь получал от княгини Марии кабалу на сумму в 210 руб. на князя Дмитрия Ивановича Немого-Оболенского, владельца второй половины села, т.е. корпорации переходило право взимания долга. С учетом смерти князя Дмитрия Ивановича Оболенского невыплаченный долг за половину села означал переход её во владение Кириллова монастыря. В данной памяти княгини Марии одним из послухов указан князь Михаил Иванович Воротынский, что делало для него в дальнейшим невозможным выкуп села у корпорации. Вклад вдовой княгини был обусловлен обязанностью монастыря возвести каменную церковь во имя великого князя Владимира Киевского на могиле её мужа и положил начало поминовению рода Воротынских на доходы, получаемые с села. В сумму расходов по каменному строительству можно включить и крупный денежный вклад князя Михаила Ивановича по Владимире – 300 руб. «да шубу соболью», а 1558 г. ещё 100 руб. 93. Правда, в публикации кирилловской описи 1601 г. данная княгини Марии (из-за опечатки?) датирована не 7062, а 7072 годом 94. Вместе с тем село регулярно отмечается в кирилловских вытных и переписных вотчинных книгах 1559–1601 гг. 95. В связи с этим вкладом становится известно, что у князя Владимира от Марии Ивановны Немого-Оболенской была дочь Анастасия, и после смерти мать с дочерью также должны быть похоронены во Владимирской церкви, а монастырь обязан «когда Бог пошлет по их душу, память их править с князем Володимером вместе» 96. Практику возведения церквей над могилами вкладчиков можно вслед за Л. Штайндорфом оценивать как «эстетическую сторону поминальной культуры» 97. Во вкладной книге 1560‑х годов и описи Кириллова монастыря 1601 г. перечислено много вкладов княгини Марьи иконами, тканями и утварью 98.
7/5. КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР (ИН. АРСЕНИЙ) ИВАНОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1543, †22.01.1565)
боярин (1560–1567) нам.Рязань(1550), 3С: Ив.Мих. :Анастасия. Ив. Захарьиной Романовой. 2‑й воевода в Белёве (1543) и Одоеве (1544), наместник в Рязани (1550–52). В конце 1550 года вместе с другими воеводами нанёс поражение отрядам ногайских мурз при их набеге на рязанские и мещерские земли, летом 1551 года руководил построением города-крепости Михайлов. 2‑й (1553–54), 1‑й (1558–59) воевода в Казани, воевода в войсках на южной границе (1555, 1560, 1562). 15.9.1562 арестован с братом Михаилом «за изменные дела», отправлен с женой в заточение в Галич (его часть родовых земель конфискована). Прощён в апреле 1563 года; поручителями за него «своими головами» и огромной суммой в 15 тысяч рублей выступили 8 авторитетных бояр, за которых, в свою очередь, поручились 102 члена Государева двора. Осенью 1564 года постригся в монахи под именем Арсения. Похоронен в родовой усыпальнице; царь Иван IV дал по нему большой вклад в обитель деньгами и вещами. В. И. и А. И. Воротынские не имели мужского потомства.

В Дворовой тетради из Служилых князей, боярин (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 112, 117). В марте 1542 г. во время приема литовских послов в Москве князья Владимир, Михаил, Александр Ивановичи Воротынские названы среди князей и детей боярских, «которые в думе не живут, а при послех в избе были» (Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 147). В 1543 г. воевода в Белеве. В 1544 г. воевода в Одоеве. В апреле-ноябре 1550 г. наместник и воевода в Рязани. В апреле 1551 г. воевода в Михайловом городе из Рязани. В августе 1551 г. строил г. Михайлов на р. Проне (Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции / Подг. текста и коммент. А. А. Зимина. М., 1978. С. 95, 201, 370, 477, 478, 517). В октябре 1551 г. воевода в Терехове из Рязани. Наместник в Рязани в апреле, августе, ноябре 1550 г., апреле 1551 г., октябре 1552 г. (Пашкова Т.И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века (наместники и волостели). М., 2000. С. 158; Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.) / Сост. Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов. Казань, 2006. С. 65).
В мае 1553 г. отправлен воеводой в Казань на годованье, должен был быть на вылазке в городе. В мае 1553 г. в войске из Нижнего Новгорода на Свияжск во главе передового полка. В 1555 г. во главе передового полка в Николе Заразском, затем должен был быть воеводой в Одоеве. В 1558 г. воевода, годовавший в Казани. В 1559/60 г. воевода в Дедилове, затем должен был возглавить войско на Ливне и, наконец, упоминается воеводой в Туле. В 1560 г. второй воевода в Одоеве, затем второй воевода в Туле.
В 1561/62 г. в Серпухове во главе полка правой руки. 15 сентября 1562 г. подвергся опале и был сослан с женой в Галич и посажен «в тын» за сторожи. Его доли в Воротынске, Новосильске и Перемышле были конфискованы. Через полгода был освобожден и вскоре умер 99. По нему поручились бояре князья И. Д. Бельский, И. Ф. Мстиславский и др. 20 апреля 1563 г. в 15 тыс. руб. (Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 22). В ящике 223 в Царском архиве хранились челобитные (вероятно местническое дело) князя Д. С. Шестунова с князем А. Воротынским (вероятно в 1559 г.). В 1563/64 г. в войске в Калуге во главе передового полка, затем в июле 1564 г. в войске в Вязьме и Ржеве второй воевода сторожевого полка (на службу не прибыл, сказался болен) 100.
В 1567–1569 гг. упоминаются поместные деревни (Кочеватик и другие) в Угличском уезде Анны, жены князя А. И. Воротынского (Писцовые материалы Ярославского уезда XVI в. Вотчинные земли / Сост. В.Ю. Беликов, С.С. Ермолаев, Е.И. Колычева. СПб., 1999. С. 118).
В 1554/1555 г. князь А. И. Воротынский дал Троице-Сергиеву монастырю по жене княгине Ирине 50 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 48). Корм по нему 6 февраля. Дано по нему царем Иваном Васильевичем 515 руб. Кирилло-Белозерскому монастырю 300 руб. (Сахаров И.П. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря // Записки Отделения русской и славянской филологии Императорского археологического общества. 1851. Т. 1. Отд. 3. С. 69). Князь А. И. Воротынский дал Кирилло-Белозерскому монастырю вклад по жене княигне Ирине 50 руб. (Алексеев А.И. Первая редакция вкладной книги Кириллова Белозерского монастыря (1560‑е гг.) // Вестник церковной истории. 2010. № 3 (4). С. 43). Князь А. И. Воротынский дал Кирилло-Белозерскому монастырю по жене книгине Ирине 50 руб. Царь Иван Васильевич дал по нему 200 руб., а после похорон в Кирилло-Белозерском монастыре князя Александра повелел положить на гробу шубу соболью под бархатом да дал еще 50 руб. 101. Князь А. И. Воротынский дал Серпуховскому Высоцкому монастырю 60 руб. 102.
Князь А. И. Воротынский около 1564 г. принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре, в иночестве Арсений. Умер 6 февраля 1564 г. и похоронен в Кирилло-Белозерском монастыре 103.
Ж.: 1) ИРИНА († до 20.02.1553)
Ж.: 2) АННА (ИН.АНАСТАСИЯ) (1565, †25.12.1570). Похоронена в Новодевичьем монастыре.
8/5. КНЯЗЬ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1543, † 13.06.1573)
Второй сын кн. Михаила Ивановича Федоровича и Анастасии Ивановны Захарьиной Романовой, служилый князь; боярин(1573). Участник Казанского похода 1551 В 1552 произведен в бояре. В 1561 попал в опалу и сослан на Белоозеро, в 1565 прощен и назначен казанским наместником. В 1572 разгромил крымского хана на р. Лопасне. Казнен Иваном IV по ложному доносу.
В Дворовой тетради из Служилых князей с пометой «боярин» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 117). Боярин с сентября 1565 г. (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 222). В марте 1542 г. во время приема литовских послов в Москве князья Владимир, Михаил, Александр Ивановичи Воротынские названы среди князей и детей боярских, «которые в думе не живут, а при послех в избе были»104. В 1543 г. первый веовода в Белеве.
Летом 1544 г. в войске в Калуге второй воевода большого полка (назван калужским наместником). В декабре 1544 г. войско крымского калги («царевича») Имин-Гирея напало на южные рубежи России. Повоевав белевские и одоевские «места» и захватив большой полон, татары безнаказанно отступили в степь. Официальная летопись – т.н. Царственная книга – объясняет успех крымского набега неожиданностью нападения, «небрежением» украинных воевод и трактует его как Божью кару за людские грехи105. В конце правления Ивана IV придворные «лицевые» (иллюстрированные) летописи подверглись редактуре. На полях финальных томов Лицевого летописного свода – Синодального тома и Царственной книги – появились многочисленные приписки, в значительной степени направленные против виднейших политических деятелей второй половины XVI в. Подобная приписка была оставлена анонимным редактором и напротив статьи о крымском набеге декабря 1544 г. Из ее текста следует, что в военной неудаче на южной границе виноваты трое воевод: князья Петр Михайлович Щенятев, Константин Иванович Курлятев и Михаил Иванович Воротынский. Получив весть о нападении Имин-Гирея, воеводы затеяли местническую свару: «распрешася о местех, и того ради не поидоша помогати тем местом»106. В Описи царского архива XVI в. также обнаружена запись о некоем местническом споре князей П.М. Щенятева и М.И. Воротынского107. Еще три источника, связанных с упомянутым «делом» декабря 1544 г. проясняют позицию князя Воротынского в интересующем нас местническом конфликте. Первый источник, «память» кн. В.Ю. Голицына (ноябрь 1579 г.), сообщает, что один из участников «дела о местех», кн. П.М. Щенятев, имел «правую грамоту в отечестве» на кн. М.И. Воротынского, то есть некогда держал сторону ответчика в местническом споре и вышел из него победителем108. Из второго документа, «памяти» кн. И.К. Курлятева (август 1582 г.), следует, что третий участник разбирательства, кн. К.И. Курлятев, также местничался со Щенятевым (был ему «месник»), правда, непонятно в какой именно роли: истца или ответчика109. Позиция Курлятева становится ясна с привлечением третьего источника – записи Колюбакинского списка Разрядной книги 1478–1603 гг., сообщающей, что в аналогичной ситуации, при отражении ногайского набега декабря 1550 г., кн. К.И. Курлятев отказался быть «в сходе» с кн. П.М. Щенятевым, потому что доводился ему «месником»110. Суммируя данные пяти источников, можно заключить, что, когда 30 декабря 1544 г. татары Имин-Гирея пришли на белевские и одоевские «места», кн. К.И. Курлятев и кн. М.И. Воротынский отказались быть «сходными воеводами» под началом молодого и неопытного в воинском деле кн. П.М. Щенятева, имевшего, кроме того, не вполне ясный местнический статус. Князья затеяли против Щенятева местническую «прю» и не пошли на помощь «украинным» воеводам, чем предопределили успех крымского набега. Трое «месников» понесли заслуженное наказание: кн. М.И. Воротынский был «разряжен» воеводой в пограничную крепость Васильсурск, кн. К.И. Курлятев в течение трех лет не получал воеводских назначений, а кн. П.М. Щенятев стал наместником Каргополя.
В 1544/45 г. воевода, годовал в Васильгороде. В 1547 г. в войске из Мещеры на Казань возглавил полк правой руки. В 1547 г. боярин и конюший на свадьбе Ивана IV и Анастасии Захарьиной. В ноябре 1549 г. возглавил полк левой руки в Ярославле. В 1550 г. наместник в Костроме, затем воевода в Коломне. В 1551 г. воевода в Одоеве. В октябре 1552 г. слуга и воевода в Рязани. В июне 1552 г. в войске в Коломне второй воевода большого полка, затем отправлен к Туле. В августе 1552 г. в войске под Казанью третий воевода большого полка. В октябре 1562 г. из Казани в Нижний Новгород возглавил большой полк. В июне 1553 г. второй воевода большого полка в Коломне. В ноябре 1553 г. на свадьбе Симеона Касаевича назван слугой в тысяцких. В 1554 г. отправлен воеводой на годованье в Свияжский город. В мае 1555 г. воевода в Свияжском городе. В марте 1556 г. второй воевода большого полка в Коломне. В июле 1556 г. слуга и воевода в Одоеве. В сентябре 1556 г. в войске в Калуге возглавил передовой полк. В июле 1557 г. в царском походе в Коломну отмечен дворовым воеводой. В июне 1558 г. в войске в Калуге возглавил большой полк. В марте 1559 г. выступил против крымского царя Девлет-Гирея, был вторым воеводой большого полка. В 1558/59 г. ему был велено идти в Каширу, а с Каширы в Дедилов определить место, где может встать войско; после смотра в Дедилове ему было велено идти на службу в его вотчину Одоев. В 1559/60 г. воевода в Туле. В 1559/60 г. воевода в Одоеве. В 1561/62 г. возглавил войско в Серпухове. В 1565–1573 гг. входил в Земский двор. В сентябре 1565 г. возглавил войско в Туле, где назван впервые боярином. В 1566/67 г. во главе полка правой руки в Серпухове. Весной 1569 г. в Серпухове возглавил передовой полк, в случае необходимости должен был командовать всем войском и идти за реку. В июле 1570 г. отправлен воеводой в Серпухов, где находился и в сентябре 1570 г. В 1571 г. в походе из Новгорода против шведов был вторым воеводой передового полка. В 1572 г. в войске в Коломне возглавил большой полк (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 12, 105, 108, 109, 113, 121, 125, 128, 132, 133, 135–138, 141, 145, 152, 156, 158–160, 163, 167–170, 178, 179, 180, 183, 186, 188, 189, 195, 222, 224, 229, 230, 232–234, 237, 239, 242, 247, 250; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 326; Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 203; Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 339, 341). С 9 мая 1550 г., около 1553 г. наместник в Костроме (Пашкова Т.И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века (наместники и волостели). М., 2000. С. 143). В феврале 1561 г. «слуга», присутствовал на приеме литовских послов Я. Шимковича с товарищами в Москве. В июне 1566 г. участвовал в приговоре о перемирии с литовскими боярами в Москве. В июне 1570 г. с боярами участвовал в приеме литовских послов Я. Скратошина с товарищами (Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 26, 33–45, 380, 716–717; Выписка из посольских книг о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1487–1572 гг. // Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. Т. II. Москва; Варшава, 1997. С. 218). 15 сентября 1562 г. подвергся опале и был сослан с семьей на Белоозеро. Все имущество было конфисковано, его Новосильско-Одоевский удел ликвидирован. Пробыл в заключении 3,5 года. В начале апреля 1566 г. по ходатайству духовных лиц был освобожден и прощен. Ему были возвращены его доли городов Одоев и Новосиль вместе с долями умершего к тому моменту брата князя Александра (в его руках был весь Одоев), а также острог на Черни. Перемышль и треть Воротынска оставались за царем. В. Ю. Беликов и Е. И. Колычева считают, что после 1562 г. князь Воротынский владел не уделом, а вотчиной, пожалованной ему царем, поскольку лишился каких-либо удельно-княжеских прав. В феврале 1569 г. правительство конфисковало земли Одоевско-Новосильского княжества, взамен предоставив князю Михаилу г. Стародуб Ряполовский с уездом, в Муромском уезде село Мошок с деревнями (5900 четвертей земли), в Нижегородском село Княинино (около 1500 четвертей), в Василегородском Фокино селище. В 1572 г. после победы при Молодях князю Михаилу возвращен почетный титул «слуги» и взамен г. Стародуба был пожалован Перемышль. Сын князя Михаила Иван, умерший 8 января 1627 г., в 1626/1627 г. составил завещание, где вообще не упоминал владения в Верхнеокском регионе, только «государево жалованье» в Поволжье и Муромском уезде село Мошок и в Нижегородском уезде село Княинино и селище Фокино (дал сыну князю Алексею), а также две вотчины (купленная и закладная) в Рузском уезде (дал дочери княгине Екатерине). Однако по докладной выписке 1613 г. за князем Иваном Воротынским на территории бывшего Одоевско-Перемышльского удела было вотчин на 6600 четвертей, поместий на 665 четвертей. У князя Ивана был сын Алексей. Князь Иван просил похоронить его, как и отца, в Кирилло-Белозерском монастыре 111. 12 апреля 1566 г. в его верности поручилась группа бояр в 15 тыс. руб. 112. Боярин на Земском соборе в июле 1566 г. (Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 173). В Царском архиве в ящике 39 хранились «подкрепленные» грамоты (крестоцеловальная запись и поручная бояр от 12 апреля 1566 г.) на князя М. Воротынского, в ящике 214 «отписки в опале о князе Михаиле Воротынском на Белоозеро», в ящике 217 дело о местах князя М. Воротынского с князем П. М. Щенятевым (декабрь 1544 г.), в ящике 223 дело о местах князя М. Воротынского с князем П. Шуйским лето 1549 г.), князей А. Катырева, Д. Куракина, Д. Одоевского, П. Телятевского к князю М. Воротынскому (конец 1551 г.). 15 сентября 1562 г. царь Иван Васильевич опалился на князя М. Воротынского, конфисковал его вотчину и его с княгиней повелел отправить на Белоозеро. К нему были приставлены Я. М. Старово и И. И. Голохвастов. 11 декабря 1564 г. продолжал находиться в ссылке 113.
В июне 1573 г. попал в опалу, после жестоких пыток сослан на Белоозеро и по дороге умер 114. Казнен 12 июня 1573 г. В духовной грамоте приказал похоронить его в Кирилло-Белозерском монастыре, но был похоронен в Кашине и только 21 января 1606 г. прах князя Михаила и его сына Дмитрия-Логгина перевезли в Кириллов монастырь (Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1897. С. LIV; Шаблова Т.И. Кормовое поминовение в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре в XVI–XVIII веках. СПб., 2012. С. 348; Беляев Л.А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 205–206; Приходные и расходные денежные книги Кирилло-Белозерского монастыря. 1601–1627 гг. / Сост. З.В. Дмитриева. М.; СПб., 2010. С. 414, 688; Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов. XV–начало XVII в. М., 1998. С. 503–504). «Потомъ убиены славный между княжаты рускими Михаилъ Воротынской и Микита, княжа Одоевской, сродны его, со младенчики и дѣтками своими, единъ аки седми лѣт, а други мнѣйший, и со женою его. Всеродне погубленно ихъ, глаголютъ. Его же была сестра, предреченная Евдокия святая, за братомъ царевым Владимеромъ. А что же сему за вина была княжати Воротынскому? Негли тая точию: егда по сожжению великого славного мѣста Московского многонародного от перекопского царя и по спустошению умиленомъ и жалостномъ ко слышанию руские земли от бѣзбожныхъ варъваровъ, аки год единъ спустя той же царь перекопский, хотяще уже до конца спустошити землю оную и самого того князя великого выгнати из царства его, и поиде яко левъ-кровоядецъ, рыкаетъ, розиня лютую пащену на пожрение християнъ со всеми силами своими бусурманскими. Услышав же сие, наше чюдо забѣжалъ пред нимъ сто и двадесят миль с Москвы аже в Новъгород Великий, а того Михаила Воротынского поставил с войском и, яко могучи, земли оныя спустошения и окоянныя бронити повелѣл. Онъ же, яко муж крѣпки и мужестъвеной, в полкоустроениях зѣло искусны, с тѣм такъ силнымъ зверемъ бусурманскимъ битву великую сведе. Не далъ ему распростертися, а не на мнѣ воевати убогихъ християнъ, но бияшеся крѣпце зѣло с нимъ, и глаголютъ, колко дней бран она пребывала. И поможе Богъ християномъ благоумного мужа полкоустроением, и падоша от воинства християнского бусурманские полки, и самого царя сынове два, глаголютъ, убиени, адин живъ изыманъ на той-то битве, царь же сам едва в Орду утече, а хоругвей великихъ бусурманъскихъ и шатровъ своихъ отбѣжал в нощи. На той же битве и гетмана его, славного кровопийцу християнского, Дивую-мурзу изымано жива. И всехъ тѣхъ, яко гетмана и сына царева, тако и хоруговъ царскую и шатры его послал до нашего хороняки и бѣгуна, храбраго же и прелютаго на своихъ единоплемянныхъ и единоязычныхъ, не противящихся ему. Что же воздалъ за сию ему службу? Послушай, молю, прилѣжно пригорчайшия тоя и жалостные ко слышанию трагедии. Аки лѣто едино потом спустя, оного побѣдоносца и обранителя своего и всеа руские земли изымати и связанна привести и предъ собою поставити повелѣл. И обрѣтши единого раба его, окрадшего того господина своего, — а мню, наученъ от него, бо еще тѣ княжата были на своихъ уделѣхъ и велия отчины под собою имѣли, околико тысящъ с нихъ по чту воинства было слугъ ихъ, имже онъ, зазречи, того ради губилъ ихъ — и рече ему: «Се, на тя свидѣтелствуетъ слуга твой, иже мя еси хотѣлъ счеровати и добывал еси на меня бабъ шепчющихъ». Онъ же, яко княжа от младости своея святы, отвещал: «Не научихся, о царю, и не навыкохъ от прородителѣй своих чароватъ и в бесовство верити, но Бога единого хвалити и в Троице славимаго, и тебѣ, цареви, государю своему, служити верне. А сей клеветъникъ мой есть рабъ и утече от меня, окравши мя. Не подобаетъ ти сему верити и не свидѣтелства от такова принимати, яко от злодѣя и от предателя моего, лжеклевещущаго на мя». Онъ же абие повелѣ связана, положа на древо между двемя огни, жещи мужа в роде по сих же, в разумѣ и в дѣлехъ насвѣтлѣйшего. И притекша глаголютъ самого, яко началного када к катом, мучищамъ победоносца и подгребающе углие горяще жезломъ своимъ проклятым пот тѣло его святое (Сочинения князя Андрея Курбского // Русская историческая библиотека. Т. 31. СПб., 1914. С. 286–287).
Сохранилась его духовная грамота от июня 1566 г. с приписками за февраль 1569 г., апрель 1569 г., июнь 1571 г., ноябрь 1571 г., декабрь 1572 г., май 1573 г. По духовному завещанию сыну Ивану передавал вотчину прародителей и деда и отца г. Одоев и на Черни острог в Одоевском уезде, г. Новосиль с селами и деревнями. Жене Стефаниде до ее живота завещал в Одоеве за р. Упою села Красное и Князищево, и на Городской стороне села Жупан, Крупец с 5 деревнями, да за р. Упою 50 дворов. После смерти жены вотчина должна была отойти сыну Ивану. Князь Михаил вспоминал, что когда-то его брат князь Владимир Иванович Воротынский в своей духовной передал жене Марье треть г. Перемышля до её живота, а затем князьям Михаилу и Александру. Когда князь Александр умер, Иван Грозный опалился на Воротынских и весь г. Перемышль с уездом (братья владели по третям) и треть Воротынского уезда со всем забрал. Князь Михаил в случае возврата конфискованных земель также передавал их сыну Ивану. Дочери Аграфене те села и деревни, которые написаны жене до её живота. В случае, если после смерти князя Михаила, у него родится дочь, он ей завещал село Павловское за р. Упою, деревни Корогодинскую на Снеди Большой, Коромышевскую, деревню Ильинское, село Дорогонку. Душеприказчиками он назначил кн. Ивана Федоровича Мстиславского и Никиту Романовича Юрьева. Кн. Михаил завещал похоронить его в Кирилло-Белозерском монастыре. В феврале 1569 г. приписка: Иван IV отписал на себя те земли, что Владимир завещал жене и сыну, дал ему за них Стародуб Ряполовский с уездом (что был за князем Владимиром Андреевичем), а также в Муромском уезде село Мошок с деревнями, село Княинино в Нижнем Новгороде, селище Фокино в Васильгородском уезде. Всю эту вотчину князь Михаил завещал сыну, жене Стефаниде он передавал в Стародубе Ряполовском село Ряполово и селище Южа (что было за Григорием Карамышевым) в поместье, село Травино с деревнями. В мае 1571 г. новая приписка: вотчина Стефаниды в связи с ее смертью была передана её детям Ивану и Дмитрию. В следующей приписке от ноября 1571 г. сказано, что князь Владимир женился 30 сентября на Алене, дочери кн. Федора Татева. За женой приданое вотчина половина села Сарыева с деревнями и село Палино. Наконец, в декабре 1572 г., когда царь Иван забрал у него Стародуб и вернул Перемышль, Владимир завещал его, а также села Мошок, Княинино, Фокино сыновьям Ивану и Дмитрию, и сыну от новой жены, если он родится по третям. В мае 1573 г. Алена умерла, не родив сына (Акты служилых землевладельцев XV–начала XVII в. Т. 3. М., 2002. № 86; Беликов В.Ю., Колычева Е.И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XV – начале XVII в.// Архив русской истории. 1992. Вып. 2. С. 110–118). До 1577/1578 г. владел в Песоченском стане Коломенского уезда поместьем сельцом Обакшино с озерами (55 четвертей доброй земли) (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 474). Князь Михаил Воротынский владел вотчиной в Стародубе Ряполовском Суздальского уезда тремя пустошами (334 четверти) (Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 5. М., 2002. С. 121–122). В 1567–1567 гг. в волости Юрьева слобода Рузского уезда за ним была в вотчине деревня Васильевское (64 четверти средней земли) (Рузский уезд по писцовой книге 1567–1569 годов / Сост. С.Н. Кистерев, Л.А. Тимошина. М., 1997. С. 94). До 1602/1603 г. владел вотчиной деревней Хлыстово на р. Пехорке в Островицком стане Московского уезда (Антонов А.В. Частные архивы русских феодалов XV–начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 8. М., 2002. № 3156). За боярином князем М. И. Воротынским в стане Стародуб Ряполовский Суздальского уезда в поместье была деревня Конино и 3 пустоши (300 четвертей). В вотчине пустошь, что была деревня Чмутово (Курсенево) в 223 четверти, сельцо Колесово на Суходоле с 4 пустошами и починком (161 четверть), пустошь, что было сельцо Липки, полпустоши, что была деревня Козино с пустошь (21 четверть доброй земли), а также деревня и 17 пустошей (229 четвертей) и еще другие пустоши (данные впоследствии на оброк князю Д. М. Пожарскому) (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11320. Л. 778–780, 827 об.-831 об., 902 об.-903, 1509–1513, 1551 об.-1553 об.). Князь Михаил Воротынский имел двор в Нижнем Новгороде (Дьяконов М.А. Акты, относящиеся к истории тяглого населения в Московском государстве. Вып. 2. Юрьев, 1897. С. 20).
Послух в данной 1553/1554 г. княгини Марьи, жены князя В. И. Воротынского, давшей Кирилло-Белозерскому монастырю в Бежецком уезде село Тереботун с деревнями Подлинная, Литвиново, Черная и еще 5 деревень и 3 пустоши (25, 5 вытей) (ОР РНБ. СПбДА. А I/17. Л. 506 об.). Корм по нему 20 сентября и второй корм 21 января. Дачи по нем в 1557/1558 г. и 1566/1567 г. 450 руб. Умер 12 июня 1573 г. и похоронен в Кирилло-Белозерском монастыре в церкви Св. князя Владимира. Упомянут его сын князь Дмитрий (Сахаров И.П. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря // Записки Отделения русской и славянской филологии Императорского археологического общества. 1851. Т. 1. Отд. 3. С. 54, 68). В 1553/1554 г. дал Кирилло-Белозерскому монастырю по брате князе В. И. Воротынском 300 руб. (Алексеев А.И. Первая редакция вкладной книги Кириллова Белозерского монастыря (1560‑е гг.) // Вестник церковной истории. 2010. № 3 (4). С. 42, 43). 9 февраля 1545 г. князь М. И. Воротынский дал Троице-Сергиеву монастырю 100 руб. 4 января 1557 г. он дал вклад по своей жене Ксении и дочери Стефаниде 100 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 48). Вклады по нему 20 сентября и 21 января. Дачи по нему в 1558 г. и 1567 г. (Сахаров И.П. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря // Записки Отделения русской и славянской филологии Императорского археологического общества. 1851. Т. 1. Отд. 3. С. 54; Алексеев А.И. Первая редакция вкладной книги Кириллова Белозерского монастыря (1560‑е гг.) // Вестник церковной истории. 2010. № 3 (4). С. 73). В 1553/1554 г. князь М. И. Воротынский дал Кирилло-Белозерскому монастырю по брату князе Владимире Ивановиче 300 руб. В 1557/1558 г. он дал обители 200 руб. В 1566/1567 г. еще 150 руб. и затем 100 руб. Князь Иван Михайлович Воротынский в 1605/1606 г. дал по отцу и брату князю Логину Ивановичу 200 руб. (ОР РНБ Кир.-Бел. собр. № 78/1317. Л. 37 об., 41; Кир.-Бел. собр. № 87/1325. Л. 83–83 об.). 4 января 1557 г. дал вклад по своей жене Ксении и дочери Стефаниде (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 48). Его дочь Аграфена умерла 25 мая 1571 г. (Гиршберг В.Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–XVII вв. // Нумизматика и эпиграфика. Т. 1. М., 1960. С. 37).
Ж.: 1) КСЕНИЯ (†1557).
Ж.: 2) СТЕФАНИДА /....../ († 06.09.1570)
Надпись на надгробной белокаменной плите княгини Стефаниды Воротынской (? — 16.09.1570) в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве [51]. Написано, что « «лета 7[0]79‑г[о], сентября в 16 д[е]н[ь] престави[ла]с[ь] князъ Михаилова, княгин[я] Стефанида, Ивановича Воротынъскаго на память с[вя]тых м[у]чи[ни]ць Веры, Любви, Надеж[д]ы и матери их Софьи» » 115. Приписи к духовной М.И.Воротынского дают возможность провести независимую проверку датировок кончин его супруги и дочери. «Жены моей не стало», — записано в третьей приписи, сделанной 15 мая 1571 года в Серпухове. (Князь в это время готовился к отражению вторгшихся полчищ во главе с крымским ханом Девлет-Гиреем.) Предыдущая припись была написана, как уже сказано, в апреле 1569 года. Следовательно, смерть Стефаниды произошла в промежутке между апрелем 1569 г. и 15 мая 1571 г., что находится в согласии с тем, что указано на надгробной плите 116.
Ж.: 3) КНЖ. ОЛЕНА ФЕДОРОВНА ТАТЕВА; четвертой приписи узнаем, что 30 сентября 1571 года Воротынский, которому было примерно шестьдесят лет, женился на дочери князя Федора Татева Елене: «А в восмъдесятом году, сентября в 30 день женился есми, а понел княж Федорову Татеву дочь Олену». В декабре 1572 года (пятая припись), после того как «государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Росии пожаловал меня, холопа своего, старою моею вотчиною Перемышлем, а Стародуб у меня взял на себя, государя», Воротынский в очередной раз перераспределяет свое наследство: «А будет жена моя Олена останетца беременна, а родит сына, и та моя вотчина Перемышль и Мошок и Кнеинино з деревнями и с Фокиным детям моим трем — им, Ивану же да Дмитрею, и тому, которой будет родитца после меня». Таким образом, Михаил Иванович и второй княгине Воротынской не завещал село Княгинино. Новый брак продлился недолго, меньше двух лет. В последней, шестой приписи князь сообщает о постигшем его очередном несчастье: «И лета 7081-го [1573] мая месяца жены моей Олены в животе не стало». Наследников у Михаила Ивановича осталось только двое. Он своей рукой отписывает им имущество: «И что было есми дал жене своей Олене всякие рухледи, и что тое рухледи осталося, и то детем же моим Ивану да Дмитрею». Это последнее распоряжение в духовной грамоте овдовевшего князя М.И.Воротынского. Скоро не стало и его самого.
КНЖ. АННА (ИН.АЛЕКСАНДРА) ИВАНОВНА ВОРОТЫНСКАЯ (1546, † 1570.06.18) ин.Александра
вдова; Д:Ив.Мих. ВОРОТЫНСКИЙ. :Анастасия.Ив. ЗАХАРЬИНА<РОМАНОВА>
М.: КН. ИВАН ИВАНОВИЧ КУБЕНСКИЙ
КНЖ. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ВОРОТЫНСКАЯ (†1537.10.17,†МНДм-рь)
помещ. Д:Ив.Мих. :Анна.Вас. ШЕСТУНОВА
Девица
ЕВДОКИЯ (АВДОТЬЯ) ИВАНОВНА ВОРОТЫНСКАЯ
Ж.: КН. БОГДАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ТРУБЕЦКИЙ.
КНЖ. ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА ВОРОТЫНСКАЯ
младенец. Похоронена в Загорском монастыре рядом с отцом. Надгробие 3, которое необходимо считать детским, не имеет года. Надпись следующая: «князя Ивана Михаиловича. Воротынского кжна Парос» (далее отбито). 117.
генерация от Рюрика
9/6. КНЯЗЬ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1552,–155)
9 ноября 1552 г. Иван Владимирович дал в Троицу 50 руб. по душе князя Василия Федоровича Лопатина (который, скорее всего, приходился ему двоюродным братом 118.
С:Вл.Ив. :Мария.Фед. ОБОЛЕНСКАЯ. ТЕЛЕПНЕВА.
КНЖ. АНАСТАСИЯ (ИН. АЛЕКСАНДРА) ВЛАДИМИРОВНА ВОРОТЫНСКАЯ (1554, † 25.12.1588)
1566-после Д:Вл.Ив. Похоронена в Новодевичьем монастыре.
М.: КН. ИВ. ФЕД. МСТИСЛАВСКИЙ
КНЖ. ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ВОРОТЫНСКАЯ (1550?)
помещ. 2Д:Вл.Ив.
10/8. КН. ИВАН (ИН.ИОНА) МИХАЙЛОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1582, † 1627.01.08,†Анастасов м‑рь Одоев‑у.)
боярин и воевода, старший из двух сыновей последнего удельноговоротынского князя и крупного московского военачальника Михаила Ивановича Воротынского (ок. 1510—1573). Один из членов «Семибоярщины». боярин(1627) воев.Муром(158) воев.Тула(1582) воев.Казань(1613–1615,1618–1619) судья Пр.Казанск. дворца (1621) военачальник.
В 1582–1584 гг. входил в Земский двор. Зимой 1582 г. воевода в Туле. Сидел «по окольничем на лавке» на посольском приеме в Москве в конце 1583 г. (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 211; Сторожев В.Н. Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. М., 1908. С. 57). Служилый князь в 1588/89 гг. (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 212). В 1585–1592 сослан Борисом Годуновым как сторонник Шуйских. В 1592 возвращен и пожалован в бояре, послан первым воеводой в Казань. Встречал Лжедмитрия у Тулы, но вскоре один из участников заговора против Самозванца. Неудачно возглавлял войска Василия Шуйского, направленные против Ивана Болотникова. Участник свержения Шуйского, член Семибоярщины. В 1613 один из кандидатов на престол. В начале 1620‑х гг.- первый воевода в Москве.1С:Мих.Ив. :Ксения/+СТЕФАНИДА.
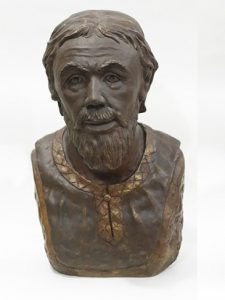
После смерти отца (1573) служил воеводой в Муроме. В апреле 1582 направлен первым воеводой в Тулу. В том же году усмирял восстание луговых татар и черемисов в Казани. Зимой 1582—1583 снова был послан через Муром и Нижний Новгород «…в казанские места по казанским вестем, что казанцы заворошилися над казанцы промышлять» с большим полком первым воеводой. В 1585—1587 годах активно участвовал в дворцовой борьбе в числе противников боярина Бориса Годунова и на стороне князей Шуйских, был подвергнут опале и содержался по воле Бориса Годунова в ссылке, в Нижнем Новгороде до 1592 года.
В 1592 году его пожаловали в бояре и отправили первым воеводой в Казань. Здесь пробыл он около 6 лет и с 1598 года поселился в Москве, оставаясь верным Борису Годунову до самой его смерти. При появлении первого Лжедмитрия он присягнул ему и был в свите боярской, выехавшей навстречу Лжедмитрию в Тулу. Через год он был уже противником Лжедмитрия и способствовал его низложению.
При возведении на престол Василия Шуйского, во всё время правления его Воротынский деятельно боролся с самозванцами и изменниками. В походе против Болотникова и князя Телятевского он, однако, потерпел поражение. Воротынский принимал участие в низложении Шуйского и был в числе лиц, объявлявших ему боярский приговор. После этого Воротынский стал членом «Семибоярщины», которая, по словам одного из современников, «прияша власть Государства Русскаго… но ничто же им правльшим, точию два месяца власти насладишася».
Сторонник и единомышленник патриарха Гермогена, Воротынский подвергся в 1611 году преследованию со стороны бояр — приверженцев Сигизмунда, был посажен под стражу и вынужден подписать грамоту об отдаче Смоленска. Вместе с ним были арестованы князь Андрей Васильевич Голицын и князь Александр Фёдорович Засекин[1].
В 1613 году в числе кандидатов на царство был и Иван Михайлович Воротынский, как один из знатнейших и способнейших бояр. Когда выбор остановился на Михаиле Федоровиче Романове, Воротынский стоял во главе лиц, посланных к избраннику с просьбой поспешить в столицу. При Михаиле Федоровиче боярин Иван Воротынский служил воеводой в Казани, был первым послом на съезде с польскими послами в Смоленск; в 1620 и 1621 гг., в отсутствие Михаила Федоровича, в звании первого воеводы ведал Москвой.
Вторым браком был женат на княжне Марии Петровне Буйносовой-Ростовской, сестре жены царя Василия Шуйского[2]. На пиру по случаю крестин сына И. М. Воротынского внезапно заболел (как полагают, был отравлен) и через несколько дней умер князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский[3]
В последние годы своей жизни он оставался вдали от дел и скончался схимником, под именем Ионы, в 1627 году.Сын М. И. Воротынского — И. М. Воротынский [? — 1627].
В начале царствования Федора Ивановича пожалованные вотчины их отцу в Нижегородском и Муромском у., также Перемышль принадлежали сыновьям М. И. Воротынского Ивану и Дмитрию Михайловичам.119 Они сохраняли даже какие-то особые княжеские права на родовую вотчину в Перемышле — сохранилось упоминание о жалованной грамоте, выданной от имени этих князей в 1583/84 г. игумену Перемышльской Шаровкиной пустыни на д. Кузменки в Одоевском у.120 В годы правления и царствования Бориса Годунова, с середины 1580‑х гг., кн. Воротынские находились в опале и их владения были конфискованы и отписаны во Дворец.
Свои владения И. М. Воротынский (его брат Дмитрий умер еще в царствование Федора Ивановича) возвращает уже в годы Смуты. В нижегородской писцовой книге 1626–1627 гг. описание старинной отцовской вотчины кн. И. М. Воротынского, с. Княгинина, содержится под рубрикой: «Из государевых... из нижегородских посопных и бортных сел за вотчинники и помещики»; указано также, что эта вотчина была ему «дана при царе Василии Ивановиче».121 Вероятно, в годы Смуты Воротынскому возвращается и его муромская вотчина. Однако с середины 1580‑х гг. кн. Воротынские уже окончательно утрачивают свои родовые княжеские вотчины в Заокском крае — с этого времени никаких сведений о владении ими этими землями мы не встречаем. В земляном списке 1613 г. за боярином кн. И. М. Воротынским значится 6600 четв. вотчинной земли, не считая нижегородского владения с. Княгинина, четвертная пашня в котором составителям этого списка была «неведома», и 665 четв. поместной земли.122 По дозорной книге 1613 г. в нижегородской вотчине И. М. Воротынского (с. Княгинине с 22 деревнями и 8 пустошами) числилось 3649 четв. земли, а в нижегородской писцовой книге 1620‑х гг. размеры этой вотчины (села Княгинино, Воротынск и Троицкое-Бармино с 29 деревнями, 3 починками и 7 пустошами) составляли уже 4633 четв. доброй земли (по сравнению с дозорной книгой 1613 г. прибыло 984 четв. земли).123 Размеры муромской вотчины (с. Мошок), по писцовой книге 1620‑х гг., исчислялись в 5900 четв.124 Основу вотчинных владений И. М. Воротынского составляли, как видно, отцовские вотчины в Муроме и Нижнем. Всего за ним в начале царствования Михаила Федоровича значилось более 10 ООО четв. вотчинной земли. Таким образом, несмотря на опричные конфискации и утрату остатков вотчин в родовом гнезде в конце XVI — начале XVII в., кн. Воротынские и в XVII в. остаются в числе крупнейших землевладельцев государства. Однако владения этих потомков служилых князей XVI в. составляли не исконные родовые вотчины в Верхнеокском регионе, а пожалованные им взамен вотчины в восточных уездах страны. Сами Воротынские в XVII в. рассматривали свои вотчинные владения не столько как родовые, сколько как жалованные. Показательна сама терминология духовной грамоты кн. И. М. Воротынского 1626/27 г.: «А вотчина за мной (речь идет об упомянутых выше нижегородской и муромской вотчинах. — А. П.) государева жалованья, старинных родителей моих благословенье деда и отца моего, чем меня по государеву жалованью отец мой благословил...».125 Хотя И. М. Воротынский вернул в Смуту свои прежние отцовские вотчины в Нижегородском и Муромском у., новых вотчин в этот период он не получил. Не был пожалован он и вотчиной за московское осадное сидение при царе Василии, хотя и находился в Москве во время осады ее Лжедмитрием II.126 Возможно, он не попал в список московских осадных сидельцев 1610 г., так как во время его составления находился уже в оппозиции к царю Василию. Известно, что Воротынский в 1610 г. возглавил делегацию бояр к царю Василию с челобитной, чтобы тот оставил царство (Белокуров С. А. Разрядные записи. С. 19, 56). Не был пожалован Воротынский новыми вотчинами и в годы царствования Михаила Федоровича. Он не упоминается, в частности, среди пожалованных вотчинами за московское осадное сидение в приход под Москву королевича Владислава в 1618 г., так как в это время находился на воеводстве в Казани. Новыми его приобретениями были лишь купленная (в 1625/26 г.) и закладная (в 1626/27 г.) вотчины в Рузском у., общий размер которых составлял 204 четв. земли,127 а также закладная вотчина в Муромском у. (половина сц. Меленки в Унженском ст., 66 четв.).128 Упоминаются его поместье в Звенигородском у., данное ему в 1605 г. «в подмосковного поместья место» (сц. Борзое с деревнями и пустошами, 315 четв.), и поместье в Муромском у. (с. Климово в Дубровском ст., 765 четв.).129 Все упомянутые выше владения И. М. Воротынского (родовые вотчины в Нижегородском и Муромском у., закладные и купленные вотчины в Рузском и Муромском у., поместья в Звенигородском и Муромском у.) в писцовых книгах второй половины 20‑х — начала 30‑х гг. XVII в. значатся за его сыном Алексеем, унаследовавшим эти имения после смерти (или пострижения в монахи) своего отца. Так, владельцем нижегородской вотчины (с. Княгинино) кн. А. И. Воротынский стал по государевой грамоте 12 декабря 1635 г. (ПК 292. Л. 64 об.), вскоре после пострижения отца (И. М. Воротынский постригся 5 декабря 1626 г.), но еще при его жизни (ум. 8 января 1627 г.).
∞, 1v, ФЕОДОРА ..... ..... (* ...., † 1586). Кн. Иван в 20 апреля 1586 г. овдовел, дав 50 руб. в Троицу по умершей жене Феодоре [Список погребенных в Троицкой Сергиевой лавре от основания оной до 1880 г. М., 1880., с. 9; Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря /
Под ред. Б.А. Рыбакова. М., 1987., с. 48].
∞, 2v, КНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВНА БУЙНОСОВА (ум. 3 мая 1628), дочь князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского,
11/8. КН. ДМИТРИЙ-ЛОГГИН МИХАЙЛОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1566,1589,—1584.07.27)
сл.князь (1589) 2С:Мих.Ив. :Ксения/+СТЕФАНИДА. В 1585–1586 гг. они
вместе были на воеводстве в Нижнем Новгороде, затем — в боярском списке 1588–1589 гг. в рубрике «служебные князи» с пометой «оба в деревне» [Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966, с. 378, 391; Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при
Борисе Годунове (1584–1605). СПб., 1992, с. 88 (прим. 47), 214; Станиславский А.Л. Труды по истории Государева двора ХVI–ХVII вв. М., 2004., с. 212]. Если
Дмитрий родился не позднее апреля 1569 г., а cлужить начал с 15-
ти лет, значит, в список был включен примерно в 20–21 год,
но здесь имеется одна хронологическая нестыковка.
Короткая жизнь Дмитрия указана В.Д. Назаровым в 1569–
1591 годах. По надписи же на надгробной плите в Кирилловской
описи 1773 г. смерть его отмечена 27 июля 1584 г. под именем
Лонгина, погребен он был вблизи отца в Кашине. В январе 1606 г.
их останки были перенесены кн. Иваном в Кириллов [Описание Кирилло-Белозерского монастыря 1771–
1773 гг.: в 3‑х томах. Т. 1. Строения / Сост. и отв. ред. И.В. Пугач. Вологда, 2020, с. 310].
В начале царствования Федора Ивановича пожалованные вотчины их отцу в Нижегородском и Муромском у., также Перемышль принадлежали сыновьям М. И. Воротынского Ивану и Дмитрию Михайловичам.130 Они сохраняли даже какие-то особые княжеские права на родовую вотчину в Перемышле — сохранилось упоминание о жалованной грамоте, выданной от имени этих князей в 1583/84 г. игумену Перемышльской Шаровкиной пустыни на д. Кузменки в Одоевском у.131 В годы правления и царствования Бориса Годунова, с середины 1580‑х гг., кн. Воротынские находились в опале и их владения были конфискованы и отписаны во Дворец.
КНЖ. СТЕФАНИДА МИХАЙЛОВНА ВОРОТЫНСКАЯ (–1557-до)
4 января 1557 г. кн. Михаил Иванович Воротынский дал вклад по своей жене Ксении и дочери Стефаниде 100 руб. 132.
помещ. 2Д:Мих.Ив. :СТЕФАНИДА?
КНЖ. АГРАФЕНА МИХАЙЛОВНА
умерла 25 мая 1571 г. 133. третьей приписи о «княжне Огрофене» говорится как о здравствующей, и Михаил Иванович в случае своей кончины желает, «чтобы государь милость показал, велел ее выдать замуж, за кого он, государь, по своей милости пожалует». Дочь, вероятно, приближалась к возрасту девицы на выданье, т.е. можно предположить, что в 1571 году Агриппине было около шестнадцати лет. Но вот в четвертой приписи, сделанной в ноябре 1571 года, Михаил Иванович уже по-новому распределяет то, «что было написано в сей моей духовной сел и деревень дочери моей Агрофене». Отсюда следует, что дочери не стало и не стало ее между 15 мая и ноябрем 1571 г. Это тоже согласуется с датой на надгробной плите 134.
КН. ПАРАСКОВЕЯ МИХАЙЛОВНА ВОРОТЫНСКАЯ
Младенец, дочь Михаила Ивановича Михайловича. Третий брак Михаила продолжался не менее полутора лет, в течение
которых естественно предположить рождение у них одного за одним двух детей. В Кормовой книге 1674 г. отмечены «Парасковея
младенец, Алексей младенец», причем после дочери Агрипины
[Кириченко Л.А., Николаева С.В. Кормовая книга
Троице-Сергиева монастыря 1674 г. Исследование и публикация. М., 2008., с. 220, 337]. Но не исключено,
что малютки были от Стефаниды.
КН. АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ
Младенец, сын Михаила Ивановича Михайловича. В Кормовой книге 1674 г. отмечены «Парасковея
младенец, Алексей младенец», причем после дочери Агрипины
[Кириченко Л.А., Николаева С.В. Кормовая книга
Троице-Сергиева монастыря 1674 г. Исследование и публикация. М., 2008., с. 220, 337].
генерация от Рюрика
КН. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (*12/17.3.1610, Москва — †19.6.1642, Тула, †Кирилло-Белозерск.м‑рь)
стольник(1627,-1642) Родился в апреле 1610 г. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58). Умер 19.06.1642 г. в Туле (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58); в росписи князя А.Б. Лобанова-Ростовского указано, что умер 20.06.1642 г. (Лобанов-Ростовский А.Б. Т. 1. С. 119).
Сын боярина, воеводы, наместника казанского (1615 г.) князя Ивана Михайловича Воротынского (умер 08.01.1627 г.) и его жены княгини Марии Петровны, рожденной княжны Буйносовой-Ростовской (умерла 03.05.1628 г.) (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 57–58).

В 1625 г. – стольник при отпуске персидского посла Русам-Бека, состоял в свите государя; в 1627–1640 гг. – стольник, нес дворцовые службы; 08.05.1642 г. – стольник, указано идти старшим воеводой в Тулу для защиты от крымских и ногайских людей (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58). В 1624 г. владел отцовской вотчиной в селе Ивановское Звенигородского у., 315 четвертей (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58); в 1629/1630 г. продал Борису Михайловичу Бибикову заложенную его отцу и ему вотчину – деревню Потапово с пустошами Рузского у. (Записные вотчинные книги. С. 227); в 1638 г. имел двор в Москве на Никольской улице (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 1. С. 58); 01.06.1639 г. купил у Василия Даниловича Золотарева вотчину – пустошь Гаврилково в Горетове стане Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 283); 03.05.1641 г. купил у Романа Федоровича Боборыкина вотчину – половину сельца Курицыно (Куркино) с пустошами в Горетове стане Московского у. (Записные вотчинные книги. С. 227, 597). Его единственный сын — Алексей Ивановичстольник (1625), крёстный сын князя М. В. Скопина-Шуйского, был женат на М. И. Романовой — двоюродной сестре царя Михаила Фёдоровича. В 1627–40‑е годы в отличие от других молодых стольников-аристократов постоянно получал самые значимые назначения («смотрел», «нарежал вина», «сказывал» только в «большой стол» на дворцовых и дипломатических приёмах), сопровождал царя в «моленных» поездках. Имел второй по величине среди стольников поместный и денежный оклад (1100 четвертей земли и 180 рублей), регулярно выигрывал местнические споры. Был одним из богатейших людей и наиболее крупных землевладельцев (владел поместьями и вотчинами с более чем 5,5 тысяч дворов в 5 или 6 уездах), имел резиденцию в Москве — двор-усадьбу на Никольской улице. Весной 1642 года назначен командующим войсками в Туле (специально для него служба была объявлена «без мест»).
Все владения И. М. Воротынского (родовые вотчины в Нижегородском и Муромском у., закладные и купленные вотчины в Рузском и Муромском у., поместья в Звенигородском и Муромском у.) в писцовых книгах второй половины 20‑х — начала 30‑х гг. XVII в. значатся за его сыном Алексеем, унаследовавшим эти имения после смерти (или пострижения в монахи) своего отца. Так, владельцем нижегородской вотчины (с. Княгинино) кн. А. И. Воротынский стал по государевой грамоте 12 декабря 1635 г. (ПК 292. Л. 64 об.), вскоре после пострижения отца (И. М. Воротынский постригся 5 декабря 1626 г.), но еще при его жизни (ум. 8 января 1627 г.).
При кн. Алексее Ивановиче Воротынском, умершем в 1642 г. в сравнительно молодом возрасте (около 32 лет), и, вероятно, по этой причине не дослужившемся до боярского чина, земельные владения Воротынских также не слишком увеличились в своих размерах. По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г., за кн. А. И. Воротынским числилось в разных уездах 12 040 четв. поместной и вотчинной земли, а также приданая, полученная от его тестя боярина И. Н. Романова, вотчина в Лебедянском у. (325 четв.). Всего, включая приданую вотчину, за ним значилось 12 365 четв. земли и 1522 двора.135 Львиную долю его владений, как нетрудно заметить, составляли старые, унаследованные от отца вотчины и поместья. После смерти А. И. Воротынского (ум. 19 июня 1642 г.) 31 августа 1642 г. его вдове с сыном Иваном было выдано 6 грамот в Нижний, Курмыш, Муром, Рузу, Звенигород и Можайск на владение вотчинами и поместьями мужа — нижегородской вотчиной с. Княгинином с деревнями (4433 четв.); поместьем в Курмышском у. (50 четв.); старинной (с. Мошок с приселками, деревнями и пустошами, 5900 четв.) и закладной (половина сц. Меленки, 66 четв.) вотчинами, а также поместьями (с. Климово и жеребей с. Брошки, 796 четв.) в Муромском у.; закладной (91 четв.) и купленной (140 четв.) вотчинами в Рузском у.; поместьем в Звенигородском у. (315 четв.); поместьем в Можайском у.; всего 12 059 четв. (10 630 четв. вотчинной и 1429 четв. поместной земли).136 Часть вотчинных владений в Рузском у. (заложенная в 1626/27 г. кн. И. М. Воротынскому с сыном Алексеем головой стрелецким Лукьяном Ивановичем Мясного) в 1629/30 г. была продана кн. А. И. Воротынским Борису Михайловичу Бибикову, но записана за последним только в 1642 г.137 Из этих владений новыми (не бывшими прежде во владении за отцом кн. А. И. Воротынского, боярином кн. И. М. Воротынским) были лишь поместья в Курмышском, Можайском и Муромском (в Куземском ст. жеребей в с. Ерошкино138) у., а также упомянутая выше приданая вотчина в Лебедянском у. В 1639 и 1641 гг. кн. А. И. Воротынским была куплена вотчина в Горетове ст. Московского у. (сц. Куркино), половина которой значилась прежде за кн. И. И. Меньшим Одоевским, а другая половина — за Тимофеем Васильевичем Боборыкиным.139 Известно, что половину сц. Куркино (Курицыно) кн. А. И. Воротынский купил в мае 1641 г. у Романа Федоровича Боборыкина, племянника Т. В. Боборыкина.140
Ж.1, МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА СТРЕШНЕВА, дочь Лукьяна Стрешнева. Князь П.В. Долгоруков писал: «У новой царицы было три сестры: старшая уже была замужем за бедным дворянином Елизаром Чебуковым; из двух других одна, некрасивая наружностью и болезненная, была выдана за дворянина Матюшкина из хорошего и богатого дома; младшая же, красавица, вышла замуж за знатного русского вельможу князя Воротынского» (Записки князя Петра Долгорукова. СПб., 2007. С. 155)
Ж.2, 1642, МАРФА ИВАНОВНА РОМАНОВА, дочь Ивана Нкт. Романова Каши и Ульяны Фед. ЛИТВИНОВА
КНЖ. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ВОРОТЫНСКАЯ
М , КН. ФЁДОР СУНЧАЛЕЕВИЧ ЧЕРКАССКИЙ.
генерация от Рюрика
КНЯЗЬ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1642, — 24.7.1679, Москва,†Кирилло-Белозерск.м‑рь)
С:Алс.Ив.Мих-ча. стольник(1658,-1664.02.12), боярин (с 1664), входил в ближайшее окружение царя Алексея Михайловича. Стольник (с 1648).

Как и отец, получал самые престижные служебные назначения на дипломатических и дворцовых приёмах, в царских походах (обычно являлся 1‑м рындой), поездках и тому подобное. 1648, в чине свадьбы Царя Алексея Михайловича с М. И. Милославской «сидел на месте государеве 141. В 1651 бывши стольником, а потом боярином, нес почти исключительно придворную службу: участвовал на парадных встречах и отпусках послов, бывал «рындой у большого саадака», часто обедал с государем и, за отсутствием его, оставался блюстителем столицы 142. В 1660–70‑е годы выполнял отдельные поручения царя (не раз возглавлял боярские комиссии для управления Москвой в отсутствие царя и др.), неоднократно участвовал в дипломатических переговорах. С 1664, боярин, потом ближний боярин и двореций 143. 1664, фев. 11, участвововал в церемонии приема Английского посла, в фев, 13 — при отпуске его 144. В 1667 году он же был вторым членом суда над патриархом Никоном. 1670, янв. 28, дневал у гроба царевича Алексея Алексеевича 145. В 1671 году — первый сановник во время бракосочетания царя Алексея Михайловича с Нарышкиной («стоял у сенника»). 1674, окт. 5, удостоился «царского поднесения чарки вина» 146. † 1679, июля 24.
Обладал весьма значительным состоянием и входил в число крупнейших землевладельцев (до 20 вотчин с более чем 4,6 тыс. дворов в 8 уездах). Имел вотчины Звенигород‑у., Лебедянь‑у., Москва‑у., Муром‑у., Нижний‑у.,Суздаль‑у., Юрьев‑у.. 1643, дано ему поместье отца, кн. Алексея Ивановича, Звенигородск. у. в с. Ивановском 147. 1670, это поместье дано ему в вотчину. 1682, вотчина его Суздальск. у. с. Павловское с дер., всего 2118 четв., дана дочери его кж. Настасье в приданое, зятю его кн. Петру Алексеевичу Голицыну. 148. В 1680 году вотчинные земли с деревнями и пустошами Ивана Алексеевича перешли в приказ Большого Дворца: в Нижнем Новгороде — с. Княгинино, с. Воротынеск, с. Троицкое (4633 чети, 1699 дворов), в Муроме — с. Мешок (5900 четей, 955 дворов). Отписана была и «приданная земля матери Ивана Алексеевича — Марфы, «что за нею дал в приданое боярин Иван Никитич Романов», на Лебедяни — с. Мокрой Боярак с слободами (325 четей, 770 [99] дворов). Всего на царя было отписано 10858 четей, 3424 двора.
Владения Воротынских существенно увеличились уже во второй половине XVII в. В 1678 г. за боярином кн. Иваном Алексеевичем Воротынским (сыном кн. А. И. Воротынского) числилось 4609 дворов,149 тогда как за его отцом в 1638 г. было лишь 1522 двора. Основу земельных богатств кн. И. А. Воротынского составляли уже не столько старинные вотчины отца, деда и прадеда, сколько пожалования царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича своему ближнему боярину и родственнику (он приходился троюродным братом царю Алексею Михайловичу по матери). Со смертью сына И. А. Воротынского Ивана Ивановича Воротынского 24 апреля 1680 г. род кн. Воротынских пресекся.150
Отстроил усадьбу-резиденцию в подмосковном селе Куркино, возвёл в ней каменную церковь Владимирской Божией Матери (сохранилась); пожертвовал крупные суммы на строительство приходской церкви Троицы «в Полях» в Москве (не сохранилась). В каменных палатах его московской усадьбы на Никольской улице было до 40 парадных, жилых и иных помещений, парадное крыльцо завершалось тремя каменными шатрами с бочкой, крытой жестью, в усадьбе также находились хозяйственные и жилые строения для многочисленной дворни. У И. А. Воротынского хранились парсуны шведского короля Густава II Адольфа и королевы Кристины, изображения гербов, переводы «Курантов», описание свадьбы польского короля Владислава IV и пр.
Для изучения княжеского землевладения XVI-XVII вв. значительный интерес представляет само дело, в составе которого дошли завещания отца и сына Воротынских 12. Дело начато в 1680 г. после 24 апреля, когда умер последний представитель рода — Иван Иванович. Годом раньше скончался его отец, Иван Алексеевич, приходящийся правнуком Михаилу Ивановичу Воротынскому. 30 апреля 1680 г. по именному указу царя Федора княжеские вотчинные земли с деревнями и пустошами перешли в приказ Большого Дворца. Однако на эти земли сыскались претенденты, подавшие иски. Князья Одоевские — боярин Никита Иванович, его сын Яков, внуки Юрий Михайлович и кравчий с путем Василий Федорович предъявили права на выморочную вотчину, мотивируя это требование своим родством с Воротынскими (дети М.И. Воротынского Иван и Дмитрий «его боярина кн. Никиты Ивановича дядья»), а также тем обстоятельством, что в бытность после смерти «прародителя их» П.С. Одоевского Василий III «изволил жеребей ево в г. Одоеве отдать племяннику ево двоюродному» кн. И.М. Воротынскому. Правительство мотивирует свой отказ ссылкой на завещание М.И. Воротынского: «В списку с духовной князя Михаила Ивановича Воротынского за ево рукою 7074 г.... написано: ...а будет дети ево или дети детей ево изведутца бездетны, и та ево вотчина вся государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии». Данный отрывок представляет большую ценность, так как в духовной Михаила Воротынского его нет из-за того, что начало четвертого сстава (Л.251) оказалось впоследствии срезанным. Именно на основании этой выдержки и анализа фраз завещания, начинающихся со слов «А что есми...» (Л.250), нами предпринята попытка реконструкции отсутствующего ныне текста. При этом местоимение «его», присутствующее в делопроизводственном изложении, заменено на местоимение «мой». Сопоставление других мест духовной грамоты, изложенных приказными чинами, с текстом самого завещания показывает высокую степень идентичности. Относительно «приданной» вотчины на Лебедяни правительство указало претендентам, что эти земли «вотчина родовая бояр Романовых, а не Воротынских».
На часть выморочных земель претендовали также дочь Ивана Алексеевича Настасья, ее муж стольник Петр Голицын и вдова умершего Настасья Львовна. П. Голицыну было отказано на том основании, что он уже при женитьбе получил от тестя земли на 4225 четей и около тысячи дворов. За женщинами признавалось право на некоторые владения. В деле приводится обзор указов о порядке наследования вдовами и дочерьми родовых и выслуженных вотчин, а также купленных и приданных. В результате вдова Настасья Львовна получила поместье мужа и купленные земли в Курмышском уезде. Ей же переходит жеребей в селе Большие Ананники с деревнями в Закудемском стану Нижегородского уезда. Судя по незаконченному делопроизводству, вдове же Ивана Алексеевича должна быть возвращена родовая вотчина Мошок в Муромском уезде, Ранее отписанная в дворцовое ведомство. Дочь Ивана Алексеевича ходатайствовала о подмосковных землях, примыкавших к дворцовому селу Черкизово, данных ее отцу в 1677/78 г., взамен конфискованной в 1663/64 г. его вотчины, расположенной около села Измайлово 151.
В экспозиции музея представлено большое серебряное блюдо, которое вложили в Кирилло-Белозерский монастырь после смерти Алексея Ивановича в 1642 году его вдова Марфа Ивановна Воротынская (урожденная Романова, вторая жена князя А.И. Воротынского) и сын Иван Алексеевич. Блюдо с приподнятым в центре дном, декорировано широкой золоченой полосой с гравированной вкладной надписью, исполненной вязью: «ЛЕТА ЗРНГ /7150/ ГОДУ ИЮЛЯ ВЪ К /20/ ДЕНЪ ДАЛИ СИЕ БЛЮДО В ДОМЪ УСПЕНИЮ ПРЕЧИСТЫЕ БОГОРОДИЦЫ В КИРИЛОВЪ МОНАСТЫРЬ НА БЕЛО ОЗЕРО НА ГРОБЪ КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ВОРОТЫНСКОВО ЖЕНА ЕВО КНЯГИНЯ МАРФА ИВАНОВНА И СЫНЪ ЕВО КНЯЗЪ ИВАНЪ АЛЕКСЕЕВИЧЬ». На днище в центре, в небольшом круглом клейме, надпись вязью: «ВЪ СЕМЪ БЛЮДЕ ВЕСУ ФУНТЪ СОРОКЪ ЗОЛОТНИКОВЪ». В 1677 году в Кирилло-Белозерский монастырь поступил еще один вклад от И.А. Воротынского. В память о своем сыне Михаиле боярин подарил высокую кружку, украшенную поясом крупного жемчужника и тремя литыми мифологическими фигурами. Возможно, этой кружкой, исполненной гамбургскими мастерами, Иван Алексеевич ранее был отмечен за особые заслуги перед государем. Вкладная неровная надпись на торце горловины сосуда вырезана позднее: «ЛЕТА ЗРПS /7186/ ДЕКАБРЯ ВЪ ДН ПРИЛОЖИЛЪ В ДОМЪ ОУСПЕНIЯ ПРЕСВТЫЯ БЦЫ И ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НШЕГО КИРИЛА БЕЛОЗЕРЬСКОГО ЧЮДОТВОРЦА БОЯРИНЪ КНЗЬ ИВАНЪ АЛЕКСЕЕВИЧЬ ВОРОТЫНЪСКОИ КРУШКУ СЕРЕБРЯНУЮ ПО СНЕ СВОЕМЪ КНЯЗЕ МИХАИЛЕ ИВАНОВИЧЕ ВОРОТЫНСКОМЪ ВЪ ВЕЧНЫЙ ПОМИНОКЪ».
1691, Анастасия Львовна, вдова кн. Ив. Алексеевича В., кн. Настасья Львовна вотчину свою Муромск. у. с. Успенское, 425 четв. уступила боярину Тихону Никит. Стрешневу 152. 1693, июня 8, она же, вотчину свою Моск, у. с. Часносково, 231 четв., продала сестре своей родной Анне Львовне, жене Григ. Никиф. Собакина. 153.
Его единственный сын — Михаил Иванович [? — 22.9(2.10).1677], стольник. С кончиной И. А. Воротынского или, по некоторым данным, его внука ‑Ивана Михайловича [? — 24.4(4.5).1680] род Воротынских по мужской линии пресёкся.
Ж.1, КНЖ. НАТАЛИЯ ФЕДОРОВНА КУРАКИНА (†01.05.1674), дочь боярина князя Фёдора Семёновича Куракина. Княгиня Мария Федоровна Воротынская была приезжей боярыней царицы Марии Ильиничны.
Ж.2, 1674, АНАСТАСИЯ ЛЬВОВНА ИЗМАЙЛОВА (1677, †1697) 154, дочь Льва Тимофеевича Измайлова.
генерация от Рюрика
КН. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1674, †22.09.1677, Москва)
стольник (1674,1675), сын Ивана Алексеевича и Наталии Федоровеы Куракиной. 1674, стольник царевича Федора Алексеевича, был по росписи «в походе у пирогов». 1675, авг. 27, «жалован пирогами» 155.
†1677.09.23, Москва, цер.Троицы на Старых Полях, бездетный.
КНЖ. СТЕФАНИДА ИВАНОВНА ВОРОТЫНСКАЯ († 18.11.1680)
первая дочь Ивана Алексеевича и Наталии Федоровны Куракиной, девица.
КНЖ. ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА ВОРОТЫНСКАЯ († 21.05.1679)
вторая дочь Ивана Алексеевича и Наталии Федоровны Куракиной. Похоронена в Московском Ново-Девичьем монастыре.
КНЖ. АНАСТАСИЯ (ИН. НАТАЛИЯ) ИВАНОВНА ВОРОТЫНСКАЯ (1678.04, †14.12.1691)
третья дочь Ивана Алексеевича и Наталии Федоровны Куракиной.
1680, ей, жене кн. Петра Алексеевича Голицына, дана вотчина отца ее, кн. Ив. Алексеев. Воротынского, Звенигородск. у. с. Ивановское 156. 1682, будучи уже замужем, получила из отцовского имения Суздальск. у. с. Павловское 157.
† 1691, дек. 14.
М.: КН. ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ГОЛИЦЫН (*1660, †1722), сенатор и андреевский кавалер.
Бібліографія
Беспалов Р. А. О хронологии жизни князя Федора Львовича Воротынского // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Историография. Источниковедение. Методы исторических исследований». М., 2012. №21(101). – С. 24–40. [0,99 а. л.]; Беспалов Р. А. О «напрасной» смерти князя Михаила Федоровича Воротынского.
Беспалов Р. А. Воротынское княжество в XV веке и локализация Воротынска «старого» и «нового» в 1499 году // Вопросы археологии, истории и культуры Верхнего Поочья: Материалы XIV Всероссийской научной конференции. Калуга, 5–7 апреля 2011 г. Калуга: Изд-во «Полиграф-Информ», 2012. – С. 70–77.
Беликов В. Ю., Колычева В. И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XVI — начале XVII вв. // Архив русской истории, Вып. 2. 1992.
Скрипторий
№ 1
[1 сентября 1626 г. — 8 января 1627 г.] (дата указана в сопровождающих документах [Л. 351]. Умер Иван 8 января 1627 г.) — Духовная изустная грамота кн. И.М. Воротынского.
/Л. 300/ Список з духовной слово [в слово] (текст утрачен, сохранилась нижняя часть буквы «с»).
Во имя отца и сына и святого духа. Се аз раб божий князь Иван князь Михаилов сын Воротынской пишю сию духовную своим [це]лым (правый край сставов [Лл. 300–303] обветшал. Здесь и далее, помимо оговоренных случаев, текст восстановлен по смыслу)умом и разумом, что мне кому долгу дать и то[му] писана память за моею рукою. И на ком мне самому что взять, того я не пытаю: во многия лета многие люди извелись. А приказываю душу свою господам своим князю Ивану Борисовичи) Черкаскому, Ивану Ннкитичю Юр[ьеву], и им пожаловать душу мою строить и жену мою и дети.
А вотчина за мною государева жалованья, старинных родителей моих благословенье деда и отца моего, чем меня по гос[удареву] жалованью отец мои благословил, и теми вотчинами я благословляю сына своего Олексея с сестрою в Муромском уезде село Мошок з деревнями да сельцо Замаричье да сельц[о] Дмитреевское и с пустошьми, да в Нижегородцком уезде село Княинино з деревнями да сельцо Воротынеск, да сельцо Троецкое Бармино то ж, да Фокино селище и Кременки с пустошьми. И теми вотчинами яз благословляю сына сво[его] Олексея и с сестрою. И ему с того (слог «го» написан правщиком серыми чернилами поверх исправленного) душу мою поминать и [сес]терь свою кормить, и сестру свою вскормя замуж выдать, и приданое дать за нею. [119]
Да у меня ж дв[е] вотчины, обе в Рузском уезде: одна купленая, а друг[ая] в закладе купленая, сельцо Дорок да деревня Зобова, 91 четь в поле, а в дву по тому ж. Купил есми во 134 году у Олексея Полева, дал сто тритцать рублей с пустошьми. А закладная деревня Потапова з деревням [и] и с пустошьми и со всякими угодьи, что к тои деревне есть, заложил у меня тое вотчину со всем на срок Лук[а] Мясной в пятисот рублех. И теми новыми вот [чина] ми купленою и закладною благословил я дочь свою княжну Екатерину, до тех вотчин до обеих брату ее Олексею дела нет.
Да благословляю я сына ж своего Олексея с сестрою ж божиим милосердием кресты золоты с мощьми и образы окладными, обложены серебром и золо[том]. А двор и что дома платья и судов всяких серебряны [х] и медных и оловяных, то (написано серыми чернилами поверх «и») все сыну моему с матерью и с [ее] трою. А отцу духовному дать десеть рублев. И по [цер]квам давать сорокоуст на сорок церквей по со[ро]ку алтын. Да вкладу дать в Кирилов монастырь к старому вкладу к двоюсот рублем пятдес[ят] рублев. А меня положить к Кирилове монасты[ре от]ца его князь Михаила Ивановича в ногах за церк[овью]. /Л. 301/ А людем моим, которые на моем имяни, всем да[ти вол]ю (от Л. 301 сохранились начальные три строки. Слева наискось идет обрыв, текст утрачен) и крепости их выдать им, а звати их самим...
[А] у изустной памяти сидел отец мои духовнои Б [огородицы Пречистой протопоп] (восстановлено по тексту утвердительной части грамоты [см. Л. 302]) Кондратеи. А [духовную пи]сал князь И [вала Воротынского человек Ку]земка (реконструкция предположительная).
/Л. 302/ Да у подлинной же духовной назади пишет (начиная с этой фразы и до конца листа текст написан другим почерком):
Смиренны Филарет божииею милостию патриарх московский и всеа Русии.
*А ниже того х той же духовной назади пишет: (вставлено правщиком, написано серыми чернилами)
Перед великим государем святейшим патриархом Фила[ре]том Никитичем московским и всеа Русии сю духовную [умер]шаго боярина князя Ивана Михаиловича Воротынского, в [и]ноцех старца Ионы, положил к свидетельству и к под[пи]си и к печати сын ево князь Алексеи Иванович Воротынс[кои]. А бояре Иван Никитич Романов да князь Иван Бори[со]вич Черкаской и отец духовной соборные церкви Пречистые Б[огородицы] протопоп Кондратеи стали ж. [120]
И великий государь святеишии патриарх Филарет Никитич московский и всеа Русии велел пере[д] собою духовную честь. И выслушав духовные, вспросил уме[р]шаго князя Ивана Михаиловича Воротынского, во иноцех старца Ионы, приказщиков боярина Ивана Никитича Романова да боярина князя Ивана Борисовича Черкаского: приказ вам от умершего боярина от князя Ивана Михайловича], во иноцех старца Ионы, таков ли был, как в сей духовной /Л. 303/ писано; и у сей духовной руки ваши ли; и («и» вписано серыми чернилами Число и месяц восстановлены по тексту сопровождающих документов [Л. 351])писана духовная умерш[е]го по ево ли веленью и при ево ли животе; и ты протопоп Конд. ратеи умершему боярину князю Ивану Михаиловичи), во иноцех старцу Ионе, отец ли духовной был, и рука у духовные ево ли князь Иванова?
И бояре Иван Никитич Романов да князь Иван Борисович Черкаскои сказал [и], что от умершего боярина от князя Ивана Михаиловича Воротынского, во иноцех старца Ионы, приказ таков был, как в сеи духовнои писано, и у духовные руки их. А соборнои протопоп Кондратеи сказал, что он боярину князю Ивану Михайловичю Воротынскому отец духовной, и рука у духовные ево, и писана духовная при ево животе и по ево веленью.
И великий государь святейшии патриарх Филарет Никитич московский и всеа Русии по свидетельству бояр Ивана Никитича Романова да князя Ивана Борисовича Че[р]каского и соборные церкви протопопа Кондратья духовную и список подписали и печать к духовной и к списку пр[и]ложити и отдати духовную велел князю Алексею Иванови[чу] Воротынскому. А список за своею рукою и за печатью велел оставити в казне.
Подписана духовная и список лета 7135-го [году августа в 29] (число и месяц восстановлены по тексту сопровождающих документов [Л. 351]) де[нь].
В той же подли[ннои духовной] (фраза написана серыми чернилами. Конец строки не сохранился. Вероятно, речь шла о рукоприкладстве И.Н. Романова и И.Б. Черкаского.)...
На обороте:
К сему списку з духовной боярина князя [Ники]ты Ивановича Одоивского человек Архип [ко] Палицын руку приложил. А подли[нную] духовную, справя с списком, я Ар[хип] к себе взял. [121]
Рыжими чернилами:
188-го апреля в 28 день взять к делу, [спра]вя с подлинною. А подлинную отда[ть с распискою.
Рыжими же чернилами пронумерованы сставы на склейке лл. 300–301 — 1 сстав, на склейке лл. 302–303 — 2 сстав.
ЦГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Столбцы по Москве. № 32739. Ч. 2. Лл. 300–303. Список 1680 г.
№ 1
1565 г. мая 25. — Сотная с одоевских книг письма и меры Степана Ивановича Бородина Колединского да Никиты Ивановича Еропкина «с товарищи» на владения Настасова монастыря в Павловском и Богоявленском станах с размежеванием от поместных и иных земель.
/Л. 88./ Список сотныя слова в слова.
Лета 7073 году маия в 25 де(нь). Сотная с одоевских с писцовых книг писма Степана Ивановича Бородина Колединского да Никиты Ивановича Еропкина с товарищи.
В Павловском стану в княж Михайловской Воротынского половине Рождества Пречистые Настасова монастыря деревни монастырские, данье князя Ивана Воротынского и детей его князь Володимера да князь Михаила.
У моностыря дворов («ров» приписано рыжими чернилами. Почти вся правка в тексте выполнена правщиком рыжими чернилами) монастырских: во дворе поп Василеи, во дворе дьякон Симион, во дворе Иванко бочарник, во дворе детеныш Ивашко Гулюшка («г» по исправленному «с»).
Да к монастырю ж /Л. 89/ припущено в пашню монастыркоя Деревня Селцо Мартиновскоя, данья князь Ивана Воротинского, а в нем крестьян: во дворе Радка Семенов, во дворе Логвинко Сидоров, во дворе Алешко Данилов, во дворе Афонко Иванов, во дворе Павлик
Алексеев, во дворе Климко Кузмин, во дворе Степанко Онаньин. [101] Да беспашенных: во дворе Мелешко Хозяинов, во дворе Гришко Тонкова («к» по исправленному, над строкой вписано «н»), во дворе Ширяико плотник, во дворе Софонко Онтипин. Пашни у монастыря и (вписано правщиком) з деревнею с Сельцом с Мартиновским в поде сто чети, а в дву по тому ж. Земля середнея. Лугу по Упе по реке от речки от Шибенки до церковного лугу Сергиевского попа, а от попова лугу по реке по Упе до посацких лугов. Монастырского лугу обоего шестнатцать десетин, а ставитца на нем сена четыреста копен. Пожен на диком поле на Лосинском да на селищех на Дряпловых шездесят десетин, а ставитца на них сена тысеча копен. Лесу присады пашенного десетина.
Рождества Пречистыя Настасова монастыря деревни в Павловском стану княж Володимера Воротынского данья деревня Фолимонова на реке на Упе усть речки Шибенки: во дворе Нечаико кузнец, во дворе Кленя приходец, во дворе Офонка Митин, во дворе Познячко Нестеров, во дворе Беляико /Л. 90/ приходец, во дворе Федко Ондреев, во дворе Бориско Семенов, во дворе Гришко Ошшипков, во дворе Степанко Сороколетов, во дворе Пахомко приходец, во дворе Гераеимко Ощепков. Пашни в поле восмдесят чети, а в дву по тому ж. Земля середнея. Пожни на диком поли на Лосинском да на селищех на Дряпловых тритцать десетин, а ставитца на них сена четыреста копен. Лесу непашенного по врагом пять десетин да пашенного лесу в длину на версту, а поперег на полверсты.
Деревня Голенева на речки на Шибенки: во дворе Гришка Петров, во дворе Ивашко Степанов. Пашни в поле деветнатцать четвертей, а в дву по тому ж. Земля середнея. Пожни на диком поли на Лосинском да на селищех на Дряпловых десять десетин, а ставитца на них сена сто пятдесят копен. Лесу непашенного по врагом четыря десетины да пашенного и непашенного ж лесу в длину на версту, а поперег на полверсты.
Княж Михайлова Воротынского данья деревня Красенки на реке на Упе по обе стороны врага Крутова: во дворе Митка Семенов, во Дворе Иванко Крюков, во дворе Левко Гридин, во дворе Олтух Ульянов, во дворе Иванко прихожеи, во дворе Игнатко Иванов, во дворе
Киреико Ондреев. Да беспашенных: во дворе Митко Иванов, Пашни в поле семдесят пять чети, а в дву по тому ж. Земля середнея. Да в одном поле земли угору пять чети, а пахать не пригодитца доброе худа. Лугу на реке на Упе две десетины, а ставитца на них сена пятдесят копен. Пожни на диком поли на Лосинском да на [102] селищех на Дрепловых тритцать десетин, а ставитца на них сена четыреста копен. Лесу пашенного окол поль пятнатцать десетин да непашенного лесу присады пять десетин.
Починок Лепешкин на речке на /Л. 91/ Снеди на Малой: во дворе Ларко колуженин. Пашни в поли четырнатцать четвертей, а в дву по тому ж. Земля середнея. Пожни на диком поли на Лосинском да на селшцех на Дряпловых десять десетин, а ставитца на нем сена сто пятдесят копен. Лесу пашенного десять десетин, да непашенного лесу присады по врагом три десетины.
Починок Лепешкин Жекулякин на речки на Снеди на Малой: во дворе Филко Михаилов. Пашни в поле деветь чети, а в дву по тому ж. Земля середнея. Пожен на диком поли на Лосинском да на селищех на Дряпловых пять десетин, а ставитца на них сена семдесят копен. Лесу пашенного и непашенного в длину на версту, а поперег на полверсты.
Деревня Матюшевскоя Татева на Шибенском отвершку: во дворе Васко Демидов, во дворе Иванко Офремов, во дворе Микифорка Коханов. Пашни в поле шестдесят восм чети, а в дву по тому ж. Земля середнея. Пожен *около поль две десетинaы5 (Написано по стертому), а ставитца на них сена сорок копен. Да на диком поле на Лосинском да на селищех на. Дряпловых пожен дватцать пять десетин, а ставитца на них сена (слово написано над строкой почерком писца) четыреста копен. Лесу пашенного и непашенного в длину на версту, а поперег на полверсты.
Деревня Изосимовскоя на Шибенском же отвершку: во дворе Иванко, во дворе Олешко Микитины. Пашни в поле дватцать чети, а в дву по тому ж. Земля добра. Пожни на диком поли на Лосинском да на селищех на Дряпловых дватцать десетин, а ставитца на них сена двесте сорок копен. Лесу пашенного окол поль дватцать пять десетин.
Деревня Сенки Нестерова на речки на Снеди на Малои: во дворе Иванко Иванов, во дворе Ондрюшко Ильин, во дворе Иванко Ханинин, во дворе Иванко Истомин. Пашни в поле тритцать пять чети, а в дву по тому ж. Земля середнея. Пожни на диком поли на Лосинском да на селищех на Дря /Л. 92/ пловых дватцать десетин, а ставитца на них сена на триста копен. Лесу за речкою за Снедкою к Лихвинскому рубежу в длину на две версты, а поперег на полторы (кроме первого слога «по» слово написано правщиком) версты. [103]
Да в Богоявленском стану княж Михайлове ж Воротынского даньи: Деревня Рымшинскоя Купреяновскоя на Мололовском (после первой буквы по стертому правщиком вписано «оло») отвершку: во дворе Хорланко Сидоров, во дворе Якушко Иванов, во дворе Офоня да Федко Гришины, во дворе Лучка Яковлев, во дворе Данилко Василев, во дворе Мартинко Явлев, во дворе Коняико Иванов, во дворе Иванко Ондеев, во дворе Микифорко Тонково, во дворе Истомко Пятрушин, во дворе Пятко Иванов, во дворе Позняк Ондреев (слово написано по исправленному самим писцом), во дворе Иванко Тинин. А беспашенных: во дворе Оноско Сидиров, во дворе Оношко Мишин («ш» написано писцом по исправленному). Пашни в поле восмдесят чети, а в дву по тому ж. Земля середнея. Пожен на диком поле на Лосинском да на селищех на Дряпловых десеть десетин, а ставитца на них сто пятдесят копен сена. Да на диком же поле за Засекою за речкою за Холохолною по врагу по Бегину с верховья на низ по обе стороны врага Бегины до речки до Холохолны пожен тритцать десетин, а ставитца на них сена че[ты]реста (слог в ркп. пропущен) копен. Лесу присады пашенного дватцать десетин да непашенного лесу по врагом и на рогу шесть десетин.
Рождества ж (вписано над строкой правщиком) Пречистыя Настасова монастыря на речки на Сижимки меленка колотовка, данья князя Михайлове ж Воротынского, ниже князя Михайловского ж пруда Слевидовского и ниже колодезя Слевидовского, первая меленка с верховья речки Сижинки. А у меленки двор мелника Исачка.
Рождества ж Пречистыя Настасова монастыря рыбныя ловли и бобровые гоны в реке в Вупе от врага от (вписано правщиком) Змиева на низ до посацкие земли да лугу с одним берегом по правой стороне по смете на пяти верстах, а ловят /Л. 93/ рыбу в Десне крыгами, а лете и в осень саки. А улавливают скозали рыбы на монастырь в середнеи лов годом на полтину. А в зиме рыбы не ловят. А бобров на монастырь не гонят, бобры повывелись.
Рождества ж Пречистыя Настасова монастыря на осаду данья князя Михайлова да князя Александрова Воротынских в городе под соборною церковию под Воскресением Христовым под церковья четвертой жеребей предел камен дверми к церкви Благовещению Пречистыя. Да место в городе на осаду ж против дверей под церковья в [104] длину от церкви подле сушила княж Михайловского на десеть сажен, а поперег на пять сажен. Да на приезд на посаде место дворовое безпашенное, а было то место князь Александра Воротынского огород, а в нем двенатцать дерев вишен худы позасохли.
И всего Рождества Пречистыя Настасова монастыря семь деревень да два починка оприч деревни, котороя припущена к монастырю в пашню. А дворов: двор попов да двор дьяконов да два двора монастырских детенышев деловых. А крестьянских пятдесят один двор, а крестьян в них пятдесят два человека. Да семь дворов безпшенных
оприч монастырских же места осадного, что в городе, и двора, что на посаде на приезд. Пашни в поле монастырские сто чети и середине земли. А крестьянский пашни добрыя земли дватцать чети, а середине триста восмьдесят чети, а в дву полех по тому ж. Луги и пожен и дикого поля монастырского семдесят шесть десетин, а ставитца на них сена тысяча четыреста копен. А крестьянского лугу и пожен и дикого ж (вписано над строкой) поля сто девеноста четыря (над строкой стоит слог «ти») десетины, а ставитца на них сена две тысячи семсот пятдесят копен. Лесу пашенного семдесят одна десетина, а непашенного лесу дватцать три десятины, да пашенного же и непашенного лесу в длину на пять /Л. 94/ верст, а поперег на версту. Да монастырскоя ж меленка колотовка. Сошного писма соха без трети.
А на докладе по помете дияка Путилы Михайлова велено Рождества Пречистыя Настасова монастыря земли оторханити, сошных податей никоторых с них не довати. А велено в сошное писмо Настасова монастыря земли положити для одного городового дела.
А межа Настасова монастыря земле положена с поместными землями, которые окол тех монастырских земель. Межа монастырской земли деревни Красенак с поместною землею Якова Левонтьева сына Деревнина деревни Пенкова да деревни Фраленок. От реки от Упы, а у реки Упы на берегу липа, а на липе грань, а от липы болотом к дубу, а на дубу грань. А от дуба болотом же к оврагу к Змиеву к дороге, котороя дорога от города от Одоева к селу к Павловскому, а у врага у Змиева у дароги ива плотава, а на иве грань. А от дороги от ывы по врагу по Змиеву вверх и до верховья, а верх врага Змиева липа, а на липе грань старая и новоя. А от верх враг Змиева от липы к подлесью дорогою, катороя дорога от города от Одоева к деревни ко Фроленком, а у подлесья по сторонь дороги /Л. 95/ клен, а на другой стороне дороги липа, а на клену и на липе грань. А от [105] клену и от липы дарогою лесом до земли деревни Фроленок, а по сторонь дороги дуб, а на дубу грань старая и новоя, а на другой стороне дороги дуб же, а на дубу грань старая и новоя. Налеве земля и пожни и лес монастырские деревни Красенок, а направе земля и пожни и лес поместив Якова Деревнина деревни Пенковы.
А от земли деревни Пенкова от дубов дорогою лесом к липе, а на липе грань. А от дороги от липы лесом прямо по гранем и по ямом по старым и по новым к дорошке, котороя дорошка от деревни Красенок к деревни ко Фроленком, а (вписано правщиком) у дорошки дуб, а на дубу грань. А от дорошки /Л. 96/ от дуба по отвершку по Фроленскому х клену, а на клену грань. А от клену лесом к илму, a на. илму грань. А от ылму лесом к верху ко Фроленскому, а у верху у Фроленского дуб, а на дубу грань. А от верху от Фроленского от дуба лесом по гранем по старым и по новым к дорошке, котороя дорошка от деревни от Красенак к деревни к Фроленком, а у дорошки ива плотава, а на иве грань. А от дорошки и от ивы лесом кверху верха Фроленского к дороге, котороя дорога от города от Одоева и от деревни от Фроленок к деревне х Кандоуровскои, а на дороге клен, а на клену грань. Да через дорогу от клену лесом к вершку х Кондоуровскому, а у вершку клен, а на клену грань. Да через верх Кондоуровскои к липе, а на липе грань. А от липы лесом Кондауровским к дороге, а у дороги клен (писец, вероятно, пропустил строку оригинала.), а на илму грань. А от илму дорогою на лес х клену, а на клену грань. А от клену лесом к ясеню, а на ясеню грань. А от ясени к дороге к поместной же земли Гриши Матвеева сына Тутчева Деревни Кондауровские, котороя дорога от города от Одоева к деревни Кондоуровскои, а у дороги клен, а на клену грань староя и новоя. Налеве земля и пожни и лес монастырские деревни Красенак, а направе земля и пожни и лес поместья Якова Деревнина деревни Фроленок.
А от земли деревни Красенок и деревни Фроленок от клену дорогою («ого» вписано правщиком по затертому) направо к ясеню, а на ясени грань староя и новоя, а от ясени дорогою полем к отвершку речки Снеди Малыя меж монастырского починка Лепешкина поместия Гриши Тютчева деревни Кондоуровские да по отвершку речки Снеди Малые на низ до речки до Снеди ж до Малые, а от речки от Снеди от Малые направо к горе по гранем по старым и по ямом к оврагу да по врагу вверх до верховья. А от верховья врага к дорошке, а у дорошки два кленка, а на кленех [106]грани. А от дорошки лесом прямо к ясеню, а на ясени /Л. 97/ грань. А от ясени лесом же к дороге, котороя дорога к речке к Снеди к Болшои и в Лихвинскои уезд к погосту к Пречистои на Глинеск, а у дороги ясень, а на ясени грань старой и новоя. А от ясени дорогою налево к дубу, а на дубу грань, а от дуба дорогою ж меж верхов речки Снеди и речки Вацы, а у верховья речки Снеди дуб, а на дубу грань. А от дуба по граней по старым и по новым к липе, а от липы дорогою по Лихвинскои рубеж, а у Лихвинского рубежа илем, а на илму грань. Налеве земля и лес монастырских починка Лепешкина да деревни Сеньки Нестерова, а направе земля и лес поместные Гришки Тютчева деревни Кондауровские.
А от земли деревни Кондауровские от илму по Лихвинскому рубежу з дороги налево лесом по граней по старым и по новым меж верхов речки Снеди ж и речки Вацы к монастырской же земле деревни Изосимовские и поместной же земли Офонки Федорова сына Каторгина деревни Нестеровския Козлова к верховью вершка речки Вацы, которой вершок в Лихвинскои уезд меж деревни Красенские и деревни Рыловские, а у верху вершка речки Вацы илем, а на илму грань староя и новоя. Налеве земля и лес монастырские деревни Сенки Нестерова, а напрове земля и лес Лихвинского уезда.
А от Лихвинского рубежа от верху вершка речки Вацы от илма налево лесом по граней по старым и по новым к верху, которой верх ис под деревни Нестеровския Козлова, а у верху илем, а на илму грань. А от верху от илму лесом меж деревни Изосимовские и деревни Нестеровские Козлова, а из лесу налево полем к церковной земле Восресения Христова деревни черные Семеновские Соколникова к ясеню, а на ясени грань. Налево земля и лес монастырские /Л. 98/ деревни Изосимовские, а направе земля и лес поместные Офонки Катаргина деревни Нестеровския Козлова.
А от земли деревни Изосимовския и деревни Нестеровския Козлова, а от ясени к верховью отвертка врага Болшова, которой враг ниже деревни Изосимовския, да по врагу на низ к деревне к черной к Семеновской Соколникова к двором и к («и к» вписано правщиком) монастырской же земле деревни Матюшевские Татева. А от деревни от черные Семеновские Соколникова, от дворов и от земли Изосимовския по врагу на низ к церковной же земле Воскресения Христова деревни Медведевская Налеве земля и лес монастырские деревни Матюшевские Татева, а направе земля и лес церковноя Воскресения Христова деревни черные Семеновские Соколниковы. [107]
Да по врагу на низ к речки к (вписано правщиком) Шибенки к церковной же земле Воскресения Христова деревни Летова. Налеве земля монастырские деревни Матюшевские Татева, а направе земля церковная Воскресения Христова деревни Медведевы («в» вписано правщиком по исправленному).
А от земли деревни Медведевския по речки Шибенки на низ к дороге, котороя дорога от города от Одоева к деревне к Матюшевскои Татева и к деревни к Семеновской Нестерова. А от речки от(вписано правщиком) Шибенки дорогою направо к городу к Одоеву до дубровы до Летовские к монастырской же земле деревни Селца Мартиновского, что припущено к монастырю в пашню и церковной земле Сергия Чудотворца («ч» написано правщиком) деревни Сысоевския. Налеве земля монастырские деревни Матюшевские Татева, а направе земля церковная Воскресения Христова деревни Летова.
А от земли деревни Матюшевския Татева и деревни Летова от дубровы от Летовския дорогою направо к городу до корка, кото /Л. 99/ рои кореек («е» вписано правщиком по исправленному) за деревнею за Селцом за Мартеновским, да подле корок дорогою к пашенной к посадской земли, а корек влеве. Налеве земля и лес корек монастырские деревни Селца Мартиновского, а направе земля и лес церковные Сергия Чудотворца деревни Сысоевские.
А от земли деревни Сысоевские от корка з дороги налево межею к лощечку к поточинке к вешней. Да лощечком («ч«наведено рукой правщика более крупно) поточинкою на низ к дороге, котороя дорога от города от Одоева к Рождеству Пречистые в Настасов монастырь. Налеве земля монастырские деревни Селца Мартнновекие, а направе земля посацкоя.
Межа монастырской же земли деревни Рымшинекие Купреяновские с поместною землею Первуши толмоча Микитина сына Исакова с товарыщи деревни Жестовые (конец слова «ые» написан правщиком по «ои»). От бортного лесу от Романова ухожья верхом Сахоровым с верховья и на низ к поместной же земле Афонасья Григорьева сына Шерапова, Давыдовы Варвары Назаровы жены Григорьева сына Шерапова да сына ее Данилка деревни Оболдуевские старые. Направе земля («я» написано правщиком по исправленному) монастырские деревни Рымшинекие Купреяновские, а налеве земля поместные Первуши толмоча с товарыщи деревни Жестовые. [108]
А от земли деревни Жестовые верхом же Сахоровым на низ до верха до Моловского, которой верх ис под деревни ис под Рымшенские
Купреяновские к оврагу, которой враг с прудцом («цо» написано правщиком по исправленному), да через верх через Моловскои по гранем по старым и по новым к березняку да березняком по гранем же и по ямом, а от березнику прямо по столбом и по ямом. А от столбов направо межею да межею ж (вписано правщиком над строкой) налево меж пашен, да направо межею ж к дороге, котороя дорога от деревни Оболдуевские от старые деревни к Жестовои. Да дорогою /Л. 100/ по столбам ж (вписано правщиком над строкой) а з дороги направо межею по столбом же да налево межею по столбом же и по ямом, подле пашню деревни Оболдуевские старые и березнику, к поместной же земли вдовы Овдотьи Тютьковы жены Хохлова да ее детей Петрушки да Васки дерени Бородинские. Направе земля монастырские деревни Рымшинские Купреяновские, а напеве земля поместные Офонасья Шерапова да вдовы Ворвары Назарьевы жены Шерапова да сына ее Данилка деревни Оболдуевские старые.
А от земли деревни Оболдуевские старые березником прямо к дороге к болшои, котороя дорога от города от Одоева к бортному к лесу к Романову, да дорогою прямо да бортного лесу до Романова к верху врага Тишковского к двема ивам, а на ивах грани. Направе земля (в ркп. «земле») монастырские деревни Рымшинские Купреяновские, а налеве земля поместные Овдотьи Тютковы жены Хохлова з детми деревни Бородинские.
/Л. 101/ А от земли деревни Бородинские от верху врага Тишковского от дву ив лесом подле поляну к ясеню, а на ясени грань. А поляна вправе от ясени (с» написано правщиком по исправленному) к березе, а на березе грань старая и новоя. А от березы прямо к верху врага, которой враг к деревне к Рымшинскои Купреяновской. А от верху врага по гранем к верху другова врага, которой враг к деревне к Рымшенские Купреяновские. А от верху другова врага по гранем и по ямом к верху ж верха Сахорова к поместной же земле Первуши толмача с товарищи деревни Жестовые. Напрове земля и пожни и лес монастырские деревни Рымшинские Купреяновские, а налеве лес бортной Романов ухожен.
Межа монастырской же земле отхожим пожнем на диком поли на Лосинском с поместными ж пожнями, которые около тех монастырских пожен от надолоб /Л. 102/ от Лосинских, а у надолоб курган да [109] три дубы из одного корени, а на дубе грани старые и новые. А от кургана и от дубов прямо диким полем по столбам и по ямом подле верх на низ, а верх вправе, а у верху два дуба п л отавы, у одного дуба верх сломлен, а на дубех грани. А от дву дубов подле же верх на низ по гранем и по ямом к дубу, а на дубу грань. А от дуба подле же верх через дорогу к дубу ж, котороя дорога от города от Одоева к городу к Новасили, а на дубу грань. А от дуба ж подле же верх через речку через Радован прямо к трем березам, а на березах грани. А от трех берез подле речку Радован на низ берегом к дубу, а на дубу грань, а речка вправе. А от дуба берегом же прямо к столбу да к яме. А от столба и от ямы направо через речку через Радован к оврагу выше слободки Федки Лабозихина, да врагом от речки от Радовани вверх и до верховья врага. И верх врага дуб с отростком, а на дубу грань. А от верх врага от дуба прямо к надолбом же к Лосинским, .а на надолбе на столбу грань. Да подле надолбы направо дорошкою до кургана ж и до трех дубов, которые из одного корени. Направе земля, пожни, дикое поля Лосинское монастырское, а налеве около тех монастырских пожен земля пожня («по» написано писцом по исправленному) дикое ж поля поместья Кости Иванова сына Савенкова да сына ево Нечаика, слободки Федки Лабозихина да и Истомки Богданова сына Дуракова с товарищи селца Рождественскова Старого, да Васюка Федорова сына Завалишина с товарыщн селца Шебанова.
/Л. 103/ Межа монастырской же земле отхожим пожням селищем Дряпловым с поместными ж пожнями, который окол тех монастырских пожен. От речки от Холохолны дорогою Новасилскою болшою, от города от Новасили к городу к Одоеву через засеку в ворота в Холохоленские, подле княжева березника по гранем и по ямом да Дву дубов дорогою, а на дубех грани, а березняк княжеи вправе. А з Дороги от дву дубов направо диким полем по гранем и по ямом к верху верхов Дряпловых, да поверх верхов Дряпловых направо диким полем по гранем и по столбом и по ямом х кусту к ивовому. А от куста от ивавого к дорошке, котороя дорошка от города от Одоева поперег Дряпловых врагов к городу к Новасили. Да через дорошку к верху врага Дряплова Болшова, а верх врага Дряплова Болшого два дуба из одного корени, а на дубех грани. Да по врагу по Дряплову по Болшому от дву дубов на низ через засеку к речке ж к Халохолне. Да речкою Холохолною вверх до дороги до Навасилские ж да болшие. Направе земля и пожни дикоя поля селище Дряпловы монастырские, а налеве около тех монастырских пожен, [110] земля пожни дикое ж поля поместив Тимохи Васильева сына Зукова с товарищи села Николского старого, да Булгачка да Микитки Ивановых детей (в ркп. «датеи») Семенова Мелехова деревни Коробеиниковы слободы Рождества Пречистыя Настасова монастыря.
Да дорога от монастыря к монастырской же деревни к Рымшинскои к Купреяновскои по поместной земли Бориса Васильева сына Мещеринова с товарыщи села Ломи Полозова от реки от Упы з берегу /Л. 104/ от перевозу против монастыря, а у перевозу у реки Упы на берегу вяз да черемха, а на вязу и на черемхе грани. А з берегу от вязу и от черемхи поперек лугу и пашни села Ломи Полозова по столбам и по ямом до дароги до болшия, катороя дорога от города от Одоева к селу («с» написано правщиком) Николскому к Новому к Стояновскому в ширину дорога сажени.
А у подлинныя сотныя грамоты одоевския писцы Степан Иванович да Никита Иванович печати свои приложили. А назади по склеикам у сотнои рука подьячева Василья Иевлева сьша Акимова.
На обороте по склейке рыжими чернилами:
К сему списку Настасова монастыря игумен Иосиф руку свою к списку приложил, а подлинную сотную взял к собе.
ЦГАДА. Ф.1209. Поместный приказ. Столбцы по Белеву. ? 39848. Ч.1. Лл.88–104. Список 1660 г.
№ 1
1566 г. июнь. — Духовная грамота кн. М. И. Воротынского с приписями февраля 1569 г., апреля 1569 г., июня 1571 г., ноября 1571 г., декабря 1572 г., [мая] 1573 г.
/Л. 248/ *Список с списка з духовной слово в слово (более светлыми чернилами).
Во (первая буква написана вязью) имя отца и сына и святаго духа. Се аз раб божий многогрешный князь Михаила княж Иванов сын Воротынской пишу сию духовную своим целым умом и разумом. И что ми кому дать и что ми на ком взять и тому у меня память. А писал ее человек мои Яковец [111]Котелкин . А у памяти и по сставом рука моя.
И сыну моему то им все платити, что кому написано в той памяти дати. А на ком что написано мне имати, и хто что за собою мое вспомнит, и сыну моему у тех имати. А кому что имати на мне, и сыну моему платити им, хто чему сам какову цену скажет. А в памяти яз цену писал же на дух (край става обветшал, прочтение предположительное), а не по их скаске. И будет хто цены не скажет или хто вымер, и сыну моему ему платити им по той цене, что яз писал. А хто будет вымер, ино дети их или роду их заплатити. А не будет кому заплатит годы в три или в четыре, и сыну моему ту цену роздати нищим по тем, кому было что дата. А у ково будет есми что взял, а в памяти написати забыл а хто что за мною свое скажет, и сыну моему то им все платити.
А что за мною государева жалованье наша вотчинка от прародителей наших и деда моего и отца моего и моя город Одоев да на Черни острог в Одоевском же уезде да город Новосиль, и те городы с посады и со всеми уезды с селы и з деревнями и со всеми землями и с лесы и со всякими доезды сыну моему Ивану. А жене своей даю до ее живота в Одоеве же за рекою за Упою два селца з деревнями селцо Красное да селцо Князищева. А межа им от речки от Ломены до речки до Вицы да по Лихвинскои рубеж. Да на городцкои стороне селцо Жупан, да селцо Крупец, а деревни /Л. 249/ к тем селам: деревня Корин, деревня Брусна, деревня Ртищевская, да за Моловлем (в списках населенных мест Тульской губернии упоминается Моловль — река и селение (СНМ. Спб., 1862. С. 140)) деревня Совья на Совенском верху, да деревня Федшинская Хлыстова со всем с тем, что к тем селам и деревням [по]тягло. Да на посаде за рекою за Упою от речки Ло[мен]ы пятьдесят дворов всяких сряду до ее живота. А после ее живота те села и деревни и Дворы на посаде сыну же моему Ивану. А что была за нами государьская же жалованья изначальная [наш] а ж вотчина отца и деда нашего и наша за тре[ма] за нами город Перемышль с уездом да треть Воротынского уезду. И князя Володимера не стала, написал в Духовной треть города Перемышля жене своей княгине Марье до ее живота. А после ее живота и князь Володимер написал в духовной мне, князю Михаилу, да брату моему князю Александру. Да князя Александра в животе не стала. И по греху по нашему государь на нас опалу свою положил: город Перемышль да треть Воротынскую со всем у нас взял. И милость государь покажет город Перемышль да треть Воротынскую пожалует отдаст, и город Перемышль да треть Воротынска со всем уездом сыну же моему Ивану. А с тое вотчины [112] сыну моему душу мою поминать и матери своей приданая заплатить четыреста рублев, что яз за нею взял да истеря[л]. Да матери же своей дата наделка четыреста рублев, да сестре своей Агрофене дати приданого шестьсот рублев. А долгу на мне денежнова много по кабалам и по паметям и безкабально — и то писано все в той же памяти за моею рукою. А одолжал есми в государевех /Л. 250/ службах и в Литовском походе, коли был государь послал меня на свое дело в Литву посолством. А что было всяких к тому ходу нарядов и соболей, и то все взято по грехом по моим во государеве опале на государя. И сыну моему о том бить челом государю, чтобы государь милость показал долг велел снять. А не пожалует государь милости не покажет, окупити от долгу не велит, и сыну моему бить челом государю, чтобы государь пожаловал велел дата полетную грамоту как бы мочно оплатитися. А что есми написал жене своей до ее живота в Одоеве села и деревни и дворы на посаде, и будет жена моя пойдет замуж, и те села и деревни и дворы возмет сын мои себе. А матери отдаст приданое да что велено ей отдать наделка. А жене моей тогды до тех сел и до деревень и до дворов дела нет. А что есми написал в сей духовной сыну своему Ивану вотчину, а воля божия на до мною ся станет зайдет смерть, а жена моя останетца будет беременна. А будет родит сына, и вотчина моя обема сыном моим розделят себе попалам. А держати им та вотчина себе и своим детем впрок. А долг платити им же, и что кому написано дата, и детем моим то все роздати по сей моей духовной. А будет жена моя родит дочерь, и сыну моему Ивану вскормя сестру свою выдати замуж. А приданово ей дата шестьсот же рублев.
А что есми ... (правая часть сстава на протяжении пяти строк срезана наискось) /Л. 251/ [написал сыну своему вотчину Одоев да на Черни острог да город Новосиль, и будет дети мои или дети детеи моих изведутца бездетны, и та вотчина моя вся государю] (восстановлено на основании делопроизводственного изложения этой части духовной в приказном деле) царю и великому князю Ивану Васильевичу всеа] Русии, опроче того, что есми написал, то ... дочерем своим. А дочере моей Огрофене... села и деревни, которые написаны жене моей [Стефа]ниде до ее живота. опроче посадцких дво[ров], впрок ей и ее детем со всем с тем, что к тем селам и деревням потягло. А дочере моей, нечто будет родитца после меня, село Павловское за рекою за Упою, деревня Корогодин екая на Снеди на Болшои, да деревня Коромышевская, да по Упе на [113]городцкои стороне деревня Ильинскае, да селцо Дорогонка усть реки Дорогонки и иные деревни вверх по Упе от тово селца до усть Выле — быти со всем с тем — то моим дочерем и их детем впрок без выкупу со всем, что к тем селам и деревням потягло.
А нищим сыну моему по мне роздати сколко будет мочно. А будет сын мои или дети мои долгу моего чего не заплатят, а после их по сеи моей духовной вотчинку мою возмет государь царь и великий князь, и ему государю пожаловати тот мои долг заплатита, кому что написано дата по сеи моей духовной и по памяти по моей, которая за моею рукою. А меня ему государю пожаловать окупить от долгу, и души наши пожаловати велети устроить, как ему государю бог известит. А что есми написал в сеи духовной дочерем своим, и государю царю пожаловати того у них не замати, как яз написал в сеи духовной. И будет по моему греху государь меня не пожалует и долгу за меня не велит заплатить, и сыну моему по церквам и по монастырем давать по мне нечего, и тогды ему роздати по мне /Л. 252/ на сорокоуст на сорок церквей по сороку алтын на церковь на все. И та сто рублев дана при мне лета 7075-го и отпись взята (вероятно в оригинале фраза была приписана на полях и составлена несколько позже основного текста). Да в Кирилов дата по мне сто рублев. А которые яз земли подавал при себе к монастырем и к церквам в Одоеве и на Черни и в Новоскли, и сыну моему или детем моим до тех земель дела нет. А ведают те у них земли по тем грамотам, которые грамоты яз им на те земли подавал. А сыну моему или детем моим те им грамоты подписывати. А которые люди служили у меня по крепостям по полным грамотам и по докладным и по беглым и по кобалам, и страдные люди по всяким крепостям, и сыну моему или детем моим тех людей всех отпустити на слободу з женами и з детми. Нет до них дела ни жене моей, ни Детем [мо]им, ни роду моему никому. А крепости их всем им поотдати и отпускные давати же. А кому яз людем своим что давал, и сыну моему или детем моим, того у них не имати ничего, отпустити их со всем.
А приказываю душу свою господам своим князю Ивану Федоровичю Мстиславскому да Миките Романовичю Юрьева. И им пожаловати по сеи моей духовною душу мою и жену мою и дета мои устроити. А будет мое грешное тело у них в руках, и им меня положити в Кирилове монастыре.
А при сеи моей духовной сидел отец мои духовной Веденскои поп Тит со Псковские улицы. А на то послуси: князь Андреи да князь [114] Борис княж Дмитреевы дети Палецково, да Иван Петров сын Новосилцов. А припись у духовнои: к сей духовной князь Михаилов отец духовной яз поп Тит руку приложил. К сей духовной яз князь Михаила руку приложил. А духовною писал мои княж Михаилов человек Яковец Котелкин лета 7074-го году июля.
/Л. 253/ А что написал был яз сыну своему Ивану или детем своим вотчину свою Одоев с Чернью да Новосиль со всем уездом тех городов, и что в тех городех писал есми жене своей, и государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Росии ту мою вотчину взял на соб[е] государя. А в то место пожаловал дал мне Стародуб Ряполовскои со всем уездом, как было за князем Володимером Ондреевичем, опроче вотчинников[ы], да в Муромском уезде село Мошок со всеми деревнями того села, да в Нижнем Новеграде село Княинино, да к тому же селу Княинину в Василегород[цком] уезде Фокино Селище со всеми угодьи того села Княинина и з бортными лесы и до Волги, и Фокина Селища деревни и починки и слободы и пустоши и з бортными лесы и со всеми угодьи, что к тому селу Княинину и к Фокину Селищу всяких угоден. И та моя вся вотчина Стародуб Ряполовскои и село Мошок з деревнями и село Княинино и Фокино Селище со всеми угодьи землями и с лесы по сей моей духовной сыну моему Ивану или детем моим. А нечто государь царь и великий князь пожалует вотчину нашу старинную Перемышль и Одоев с Чернью и Новосиль со всеми уезды [тех го] родов отдати велит сыну моему или детем моим, и та вся моя вотчина Перемышль и Одоев с Чернью и Новосиль сыну моему Ивану или детем моим по сей моей духовной. А что есми писал в сей духовной в Одоеве села и деревни жене своей до ее живота, а будет сын мои или дети мои в молодости или не в молодости помрут бездетны, и яз те села и деревни писал дочери своей Огрофене впрок. И те села и деревни в Одоеве у меня взял государь царь и великий князь на собя же. И яз даю жене своей Стефаниде в Стародубе Ряполовском село Ряполово да /Л. 254/ селище Южа, что было за Григорьем за Коромышевым в поместьи, да селцо Травино со всеми дер[евнями], что к тем селам припустил князь Володимер Ондре[евич] и с поместными деревнями, которые деревни тех сел роз [даны] были в поместье, и со всеми землями и с лесы [и со] всеми угодьи, что к тем селам и деревням потягло.
А будет сын мои или дети мои помрут бездетны, и те села я деревни, которые яз писал жене своей, со всем дочери моей Oгрофене по сей моей духовной. А будет жена моя останетца беременна, а родит дочерь, а сын мои изведетца бездетен, и что писано дочере моей Огрофене после материна живота, и те села и деревни и земли [115] со всеми угодьи дочери мои розделят себе на двое попалам. И держать их за собою по сей моей духовной.
А при сей приписи сидел мои духовной поп Андреи Веденской. А сю припись писал человек мои Яковец Котелкин лета 7077-го февраля. А у той приписи припись: к сей приписи яз поп Андреи Веденской руку приложил, отец духовной княж Михаилов. К сей духовной припись: яз князь Михаила руку приложил.
А что есми написал в сей своей духовной вотчину свою и живот свои сыну своему Ивану или детем моим и после того родился у меня сын Дмитреи. И та вотчина моя и живот мои детем моим Ивану да Дмитрею по сей моей духовной. А будет зайдет на м[еня] смерть, а жена моя останетца беременна, а родит сына, и та вотчина моя и живот мои по сей моей духовной детем моим всем надел, и долг мои платят по жеребьям. А будет жена моя родит дочерь, и детем моим Ивану да Дмитрею, вскормив ее, дати замуж и приданова им за ней дати, что в сей духовной вверху написано. /Л. 255/ А при сей приписи сидел отец мои духовной игумен Варлам Златоустовскои. А сию припись писал человек мои Яковец Котелкин лета 7077-го апреля месяца. А у той приписи припись: к сей приписи яз князь Михаило руку приложил. К сей духовной приписи яз игумен Варлам, княж Михаилов отец духовной, руку приложил.
А что есми написал в сей своей духовной вотчины жене своей Стефаниде сел и деревень до ее живота, и жены моей не стало, и та моя вотчина детем моим Ивану да Дмитрею по той же росписи, как о тех селех и деревнях в сей моей духовной написана детем моим. А что есми в своей духовной писал в приказщики князя Ивана Федоровича Мстиславского да Микиту (в ркп. описка: Микиту) Романовича Юрьева в лето 7074-го, и после того князь Иван Федорович и Микита Романович мне говорили: в духовную себя в приказщики писати не велели. А детем моим Ивану и Дмитрею по сей моей духовной и по памяти, что за Моею рукою, изправляти самим, как им бог поможет и бить челом о всем о себе (слово написано над строкой) и о всяких своих нужах государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всеа России и его детем, нашим государем, и полагатися во всем на их милость государьскую. А о сестре им о своей о Ографене бить челом государю ж, чтобы государь милость показал, велел ее выдать замуж за кого он государь по своей милости пожалует. А что есми поделал саженья и платья дочери своей после опалы, и яз то все отдал еи. И детем моим /Л. 256/ у [116] нее в то не вступатися. Да к тому им отдати с вотчины сестре своеи на приданое шестьсот рублев да образ Пречистые богородицы Федоровские обложен да те образы, которые ей давали после Белаозера. А что моего живота всякого, что княжне Огрофене не отдано, и то все детем моим, а княжне Огрофене в то не вступатца. А что денег со мною было в ларце в зеленом в Серпухове, и то детем моим роздати по мне, будет тело мое грешное у них будет в руках, на погребалье и по церквам на сорокоусты и нищим.
А сю припись писал в Серпухове лета 7079-го майя в 15 день человек мои Матюшка Куровскои. А у тое приписи сидел отец мои духовной Троицкой протопоп Киприян Серпуховской. А у тое приписи припись: к сей приписи яз князь Михаиле руку приложил. Троицкой протопоп Киприян к сей духовной, княж Михаилов отец духовной, руку приложил.
А в восмьдесятом году сентября в 30 день женился есми, а понел княж Федорову Татеву дочь Олену. А бог пошлет по мою душу, и что есми дал наделка жене своей Олене, и то все писана именно на памяти. А память за моею княж Михаиловою рукою. А писал мои человек Яковец Котелкин. А вверчена в коже духовная. А что есми за нею взял приданова по рядной записи и даров и после моего живота детем моим Ивану да Дмитрею по той порядной записи все отдати. А что будет яз истерял и им за то заплатити. А что моего всякого живота после моего живота опрочь того останетца, что есми дал жене своей, образов окладных и неокладных и книг всяких и платья и лошадей и судов серебреных и погребовых /Л. 257/ и поваренных оловяных и медных и деревяных, и вотчина моя вся — детем моим Ивану да Дмитрею. А жене моей Олене до моего живота и до вотчины дела нет, опроче того, что ей яз дал по памяти. А жене моей вотчина ее приданая половина селца Сарзева («з» написано поверх «а») з деревнями да селцо Папино, что за нею яз взял в приданые. А будет жена моя останетца беременна, а родит сына, и тот мои весь живот и вотчина моя вся детем моим трем им Ивану и Дмитрею и тому будет, которои родитца после меня. А роз делят себе по третям, опроче тех крестов и икон, которыми кресты и иконами яз и жена моя Стефанида, их мата Ивана и Дмитрея, детей своих благословили. А долг им платити по третям же по сей моей духовной. А тому сыну, которой будет родитца после меня, а от меня благословения крест золот с мощами да в нем же Купина Неопалимая, да мощи Андрея Стратилата в раке в серебреной, да образ Пречистые Федоровские обложен [117] серебром венец с каменьем. А будет родит дочерь, и детем моим Ивану и Дмитрею дати своей сестре наделка приданово шестьсот рублев. Да ей же дати из моего живота крест золот с мощами да в нем же Купина Неопалимая, да мощи Андрея Стратилата в раке серебренои, да образ Пречистые Федоровские обложен серебром венец с каменьем. А будет сынови мои изведутца бездетны, а дочи будет родитца, и что было написано в сей моей духовной сел и деревень дочери моей Агрофене, и те села и деревни той моей дочере, которая будет родитца после меня, по сей моей духовной. А сю припись писал человек мои Яковец Котелкин лета 7080-го ноября месяца. А у приписи припись: К сей духовной приписи яз князь Михаил руку приложил. Отец духовной княж Михаилов Ивановича Златоустскои игумен Варлам у сей приписи сидел и руку приложил. /Л. 258/ К сему списку з духовные и к приписям руку приложил яз князь Михаил.
А лета 7081 государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Росии пожаловал меня холопа своего старою моею вотчиною Перемышлем, а Стародуб у меня взял на себя государя. И та моя вотчина Перемышль детем моим Ивану да Дмитрею по сей моей духовной. А будет жена моя Олена останетца беременна, а родит сына, и та моя вотчина Перемышль и Мошок и Кнеинино з деревнями и с Фокиным детем моим трем им Ивану же да Дмитрею и тому, которои будет родитца после меня. А розделят себе по третям. А сю припись писал человек мои Матюшка Куровского лета 7081-го декабря. К сему списку з духовной и к приписям яз князь Михаиле руку приложил. А у духовной припись отца моего духовнаго Архангелского протопопа Ивана.
И лета 7081-го майя месяца жены моей Олены в животе не стало. И что было есми дал жене своей Олене всякие рухледи и что тое рухледи осталося, и то детем же моим Ивану да Дмитрею. А сю припись писал яз князь Михаил.
А у подлинного списка назади написано по склейкам: К сему списку з духовные яз князь Михаил руку приложил и к приписям.
На обороте другим почерком рыжими чернилами
188-го апреля в 28 день взять к делу, справя с подлинною. А подлинную отдать с роспискою.
На обороте же более темными чернилами (Следующая далее нумерация сставов дана в подлиннике и не является нашей интерполяцией.)
1 сстав К сему списку списка (в ркп.: спика) з духо[внои] 2 сстав боярина [118] князя Никиты Иванови[ча] (нумерация 3‑го сстава и текст на склейке не сохранился) ... 4 сстав руку приложил 5 сстав А подлинной список з духовной 6 сстав справя 7 сстав с сим 8 сстав списком Ал (так) Архип 9 сстав взял 10 сстав к себе.
ЦГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Столбцы по Москве ? 32739. Ч.2. Лл. 248–258. Список 1680 г.
№ 1
[1 сентября 1626 г. — 8 января 1627 г.] (дата указана в сопровождающих документах [Л. 351]. Умер Иван 8 января 1627 г.) — Духовная изустная грамота кн. И.М. Воротынского.
/Л. 300/ Список з духовной слово [в слово] (текст утрачен, сохранилась нижняя часть буквы «с»).
Во имя отца и сына и святого духа. Се аз раб божий князь Иван князь Михаилов сын Воротынской пишю сию духовную своим [це]лым (правый край сставов [Лл. 300–303] обветшал. Здесь и далее, помимо оговоренных случаев, текст восстановлен по смыслу) умом и разумом, что мне кому долгу дать и то[му] писана память за моею рукою. И на ком мне самому что взять, того я не пытаю: во многия лета многие люди извелись. А приказываю душу свою господам своим князю Ивану Борисовичи) Черкаскому, Ивану Ннкитичю Юр[ьеву], и им пожаловать душу мою строить и жену мою и дети.
А вотчина за мною государева жалованья, старинных родителей моих благословенье деда и отца моего, чем меня по гос[удареву] жалованью отец мои благословил, и теми вотчинами я благословляю сына своего Олексея с сестрою в Муромском уезде село Мошок з деревнями да сельцо Замаричье да сельц[о] Дмитреевское и с пустошьми, да в Нижегородцком уезде село Княинино з деревнями да сельцо Воротынеск, да сельцо Троецкое Бармино то ж, да Фокино селище и Кременки с пустошьми. И теми вотчинами яз благословляю сына сво[его] Олексея и с сестрою. И ему с того (слог «го» написан правщиком серыми чернилами поверх исправленного) душу мою поминать и [сес]терь свою кормить, и сестру свою вскормя замуж выдать, и приданое дать за нею. [119]
Да у меня ж дв[е] вотчины, обе в Рузском уезде: одна купленая, а друг[ая] в закладе купленая, сельцо Дорок да деревня Зобова, 91 четь в поле, а в дву по тому ж. Купил есми во 134 году у Олексея Полева, дал сто тритцать рублей с пустошьми. А закладная деревня Потапова з деревням [и] и с пустошьми и со всякими угодьи, что к тои деревне есть, заложил у меня тое вотчину со всем на срок Лук[а] Мясной в пятисот рублех. И теми новыми вот [чина] ми купленою и закладною благословил я дочь свою княжну Екатерину, до тех вотчин до обеих брату ее Олексею дела нет.
Да благословляю я сына ж своего Олексея с сестрою ж божиим милосердием кресты золоты с мощьми и образы окладными, обложены серебром и золо[том]. А двор и что дома платья и судов всяких серебряны [х] и медных и оловяных, то (написано серыми чернилами поверх «и») все сыну моему с матерью и с [ее] трою. А отцу духовному дать десеть рублев. И по [цер]квам давать сорокоуст на сорок церквей по со[ро]ку алтын. Да вкладу дать в Кирилов монастырь к старому вкладу к двоюсот рублем пятдес[ят] рублев. А меня положить к Кирилове монасты[ре от]ца его князь Михаила Ивановича в ногах за церк[овью]. /Л. 301/ А людем моим, которые на моем имяни, всем да[ти вол]ю (от Л. 301 сохранились начальные три строки. Слева наискось идет обрыв, текст утрачен) и крепости их выдать им, а звати их самим...
[А] у изустной памяти сидел отец мои духовнои Б [огородицы Пречистой протопоп] (восстановлено по тексту утвердительной части грамоты [см. Л. 302]) Кондратеи. А [духовную пи]сал князь И [вала Воротынского человек Ку]земка (реконструкция предположительная).
/Л. 302/ Да у подлинной же духовной назади пишет (начиная с этой фразы и до конца листа текст написан другим почерком):
Смиренны Филарет божииею милостию патриарх московский и всеа Русии.
*А ниже того х той же духовной назади пишет: (вставлено правщиком, написано серыми чернилами)
Перед великим государем святейшим патриархом Фила[ре]том Никитичем московским и всеа Русии сю духовную [умер]шаго боярина князя Ивана Михаиловича Воротынского, в [и]ноцех старца Ионы, положил к свидетельству и к под[пи]си и к печати сын ево князь Алексеи Иванович Воротынс[кои]. А бояре Иван Никитич Романов да князь Иван Бори[со]вич Черкаской и отец духовной соборные церкви Пречистые Б[огородицы] протопоп Кондратеи стали ж. [120]
И великий государь святеишии патриарх Филарет Никитич московский и всеа Русии велел пере[д] собою духовную честь. И выслушав духовные, вспросил уме[р]шаго князя Ивана Михаиловича Воротынского, во иноцех старца Ионы, приказщиков боярина Ивана Никитича Романова да боярина князя Ивана Борисовича Черкаского: приказ вам от умершего боярина от князя Ивана Михайловича], во иноцех старца Ионы, таков ли был, как в сей духовной /Л. 303/ писано; и у сей духовной руки ваши ли; и («и» вписано серыми чернилами Число и месяц восстановлены по тексту сопровождающих документов [Л. 351]) писана духовная умерш[е]го по ево ли веленью и при ево ли животе; и ты протопоп Конд. ратеи умершему боярину князю Ивану Михаиловичи), во иноцех старцу Ионе, отец ли духовной был, и рука у духовные ево ли князь Иванова?
И бояре Иван Никитич Романов да князь Иван Борисович Черкаскои сказал [и], что от умершего боярина от князя Ивана Михаиловича Воротынского, во иноцех старца Ионы, приказ таков был, как в сеи духовнои писано, и у духовные руки их. А соборнои протопоп Кондратеи сказал, что он боярину князю Ивану Михайловичю Воротынскому отец духовной, и рука у духовные ево, и писана духовная при ево животе и по ево веленью.
И великий государь святейшии патриарх Филарет Никитич московский и всеа Русии по свидетельству бояр Ивана Никитича Романова да князя Ивана Борисовича Че[р]каского и соборные церкви протопопа Кондратья духовную и список подписали и печать к духовной и к списку пр[и]ложити и отдати духовную велел князю Алексею Иванови[чу] Воротынскому. А список за своею рукою и за печатью велел оставити в казне.
Подписана духовная и список лета 7135-го [году августа в 29] (число и месяц восстановлены по тексту сопровождающих документов [Л. 351]) де[нь].
В той же подли[ннои духовной] (фраза написана серыми чернилами. Конец строки не сохранился. Вероятно, речь шла о рукоприкладстве И.Н. Романова и И.Б. Черкаского.)...
На обороте:
К сему списку з духовной боярина князя [Ники]ты Ивановича Одоивского человек Архип [ко] Палицын руку приложил. А подли[нную] духовную, справя с списком, я Ар[хип] к себе взял. [121]
Рыжими чернилами:
188-го апреля в 28 день взять к делу, [спра]вя с подлинною. А подлинную отда[ть с распискою.
Рыжими же чернилами пронумерованы сставы на склейке лл. 300–301 — 1 сстав, на склейке лл. 302–303 — 2 сстав.
ЦГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Столбцы по Москве. ? 32739. Ч. 2. Лл. 300–303. Список 1680 г.
Правый край обветшал. Второй сстав [Л. 301] сохранился частично.
Текст завещания написан темнорыжими чернилами. Такими же чернилами, но другим почерком скопирована заключительная часть с процедурой утверждения грамоты патриархом. Третьим почерком сделано рукоприкладство Архипа. Правка в тексте завещания выполнена серыми чернилами. Приказной служитель, сделавший помету на обороте о приобщении духовной к делу, пользовался рыжими чернилами.
ПЕЧАТКИ
Печаток не знайдено
ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
- 1442 г. февраля 20. — Докончание князя новосильского и одоевского Федора Львовича с великим князем литовским Казимиром.
- 1448 г. февраля 5. – Поручная грамота князя Федора Львовича Воротынского за своего зятя князя Ивана Андреевича Можайского королю польскому и великому князю литовскому Казимиру
- 1483 г. красавіка 10. Вільня. – Дагаворная грамата варатынскіх князёў Дзмітрыя і Сямёна Фёдаравічаў і іх пляменніка Івана Міхайлавіча з каралём польскім і вялікім князем літоўскім Казімірам.
- 1488 г. сакавіка 16. Вільня. – Прысяжная грамата кн. Дзмітрыя Фёдаравіча Варатынскаго каралю польскаму і вя-лікаму князю літоўскаму Казіміру аб трыманні горада Казельска
- 1448 г. февраля 5. – Присяжная грамота князя Федора Львовича Воротынского королю польскому и великому князю литовскому Казимиру в связи с передачей воротынскому князю Козельска в наместничество
АЛЬБОМИ З МЕДІА
Медіа не знайдено
РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ
- Веселовский С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси.
- Воронцов А. М , Дедук А. В., Заидов О. Н., Колоколов А. М., Столяров Е. В., Шеков А. В. Локализация летописного Девягореска по письменным и археологическим источникам
- Зимин А. А. Служилые князья в Русском государстве конца XV — первой трети XVI в.
- Шокарев С.Ю. Коммеморативные практики князей Воротынских В XVI–XVII вв.
- Шеков А. В. К вопросу о землевладении в Смоленской земле и Мстиславском княжестве XV в.
- Беспалов Р. А. О «напрасной» смерти князя Михаила Федоровича Воротынского
- Беспалов Р. А. О сыновьях князя Романа Семеновича Новосильского
- Кузьмин А.В. Генеалогия потомков черниговских князей по данным Румянцевского II списка первого извода Патриаршей редакции родословных книг (РГБ ф.256 №349)
- LM. Kn. 5. № 131. P. 248; ДДГ. № 39. С. 117–118.[↩]
- Lietuvos metrika. Kn. 3 (1440–1498): Užrašymų knyga 3 / Parengė Lina Anužytė ir Algirdas Baliulis. Vilnius, 1998 (далее – LM. Kn. 3). P. 39.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 3, 16, 35, 73, 77[↩]
- ДДГ. № 89. С. 355[↩]
- Колычева Е. И. Судьба княжеского рода Воротынских в XVI в. // Человек в XVI столетия: Сборник статей. М., 2000. С. 117–120).[↩]
- LM. Kn. 3. P. 37, 39.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 136.[↩]
- Там же. С. 118–119; Беспалов Р. А. К вопросу о терминах «верховские князья» и «Верховские княжества» // Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Вып. 12. Брянск, 2010. С. 58–60.[↩]
- LM. Kn. 3. P. 37, 39.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 136[↩]
- Макарий (Булгаков), митр.История Русской Церкви. Кн. 5. М., 1996. С. 65[↩]
- Зайцев А. К. Черниговское княжество X–XIII вв. Избранные труды. М., 2009. С. 156; Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства (Историко-географическое исследование). СПб., 1951. С. 221[↩]
- Смоленские грамоты XIII–XIV веков. М., 1963. С. 77[↩]
- ПСРЛ. Т. 18. М., 2007. С. 267.[↩]
- ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 328.[↩]
- ПСРЛ. Т. 24. Пг., 1921. С. 199.[↩]
- СИРИО. Т. 35. СПб., 1892. С. 518.[↩]
- Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479–1491): Užrašymų knyga 4. Vilnius, 2004. №1.3, 16.4. P. 30, 58; РИБ. Т. 27. Стб. 617–621; Lietuvos metrika. Kniga Nr. 6 (1494–1506): Užrašymų knyga 6. Vilnius, 2007 (далее – LM. Kn. 6). №589. P. 341–342.[↩]
- СИРИО. Т. 35. СПб., 1892. №19. С. 84. Неизвестно, чтобы Иван Карпович перешел на службу Москве вместе с князем Семеном Воротынским. Некоторые воротынские слуги остались на литовской службе. В 1495 г. он вел тяжбу с одним из бывших мценско-любутских наместников, а под 1498 г. – назван господарским дворянином.[↩]
- ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 326–328.[↩]
- Эти сведения сохранились в поздних памятниках – «Разряде великаго князя московскаго Ивана Васильевича всея России» и в Казанской истории (Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича, издан по списку князя Оболенскаго. М., 1853. С. 15; ПСРЛ. Т. 19. СПб., 1903. Стб. 7–8, 202); но союз Ивана III, Менгли-Гирея и Нур-Довлата против Ахмата действительно оговаривался еще в московском посольстве в Крым в апреле 1480 г. (СИРИО. Т. 41. СПб., 1884. С. 17–18).[↩]
- ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 328.[↩]
- ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 49, 95.[↩]
- ПСРЛ. Т. 26. М.-Л., 1959. С. 3–7; См.: Клосс Б. М., Назаров В. Д. Рассказы о ликвидации ордынского ига на Руси в летописании конца XV в. // Древнерусское искусство XIV-XV вв. М., 1984. С. 283–313.[↩]
- ПСРЛ. Т. 26. М.-Л., 1959. С. 273, 366.[↩]
- СИРИО. Т. 35. СПб., 1892. С. 136.[↩]
- ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 330; ПСРЛ. Т. 5. СПб., 1851. С. 41; О датировке этих событий см.: Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства (вторая половина XV века). М., 1952. С. 196–198.[↩]
- Каманин И. [М.] Сообщение послов Киевской земли королю Сигизмунду I о Киевской земле и киевском замке, около 1520 г. // Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России, издаваемый Киевской комиссией для разбора древних актов. Вып. 2. Киев, 1916. С. 6.[↩]
- Голубев С. Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия) // Чтения в Историческом обществе Нестора летописца. Киев, 1892. Кн. 6. Приложение. С. 31.[↩]
- CEV, nr. 369, s. 150; Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań-Wrocław, 1999, s. 115.[↩]
- Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. М., 1986. С. 75–76; Редкие источники… Вып. 2. С. 113. Родословная князей Черниговских, скорее всего, была составлена еще в предшествующие десятилетия (Хоруженко О.И. Вопросы текстологии Румянцевской редакции родословных книг // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2020. № 3 (81). С. 197); Родословная книга князей и дворян российских и выехавших. М., 1787. Ч. 1. С. 181.[↩]
- ДРВ. Ч. 6. С. 450; Беспалов Р.А. О «напрасной» смерти князя Михаила Федоровича Воротынского // Вестник церковной истории. 2017. № 3–4 (47–48). С. 279–298.[↩]
- Кром М.М. Меж Русью и Литвой… С. 36–37; Беспалов Р.А. О хронологии жизни князя Федора Львовича Воротынского // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Историография. Источниковедение. Методы исторических исследований». М., 2012. № 21 (101). С. 37; Троицкий Н.И. Одоевский Анастасов Богородице-Рождественский монастырь (упраздненный) // Тульские древности. Тула, 2002. С. 278.[↩]
- РГАДА. Ф. 181. Ед. хр. 539. Л. 79.[↩]
- ОР РГБ. Ф. 304/III. № 25. Л. 11, 65.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 3, 16, 35, 73, 77[↩]
- Троицкий Н. И. Указ. соч. С. 278.[↩]
- Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 1.
СПб., 1846. №80. С. 100–101.[↩] - Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, rps 817. S. 215; Jakubowski J. Archiwum państwowe W. X. Litewskiego i jego losy // Archeion. Т. 9. 1931. S. 8–9, 17; Kolankowski L. Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. T. 1: 1377 — 1499. Warszawa, 1930. S. 392.[↩]
- Свидетельство о весьма неблаговидной смерти князя Михаила Федоровича сохранилось в Волоколамском патерике. Она наступила после пришествия хана Ахмата к Алексину, но до смерти Пафнутия Боровского (Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик. М., 1999. С. 99–100, 204–205).[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 5.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 21, 39–40.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 48, 51, 119–120.[↩]
- LM. Kn. 5. №27.3. P. 79.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 111–122.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 126, 130; ДДГ. №83. С. 330; LM. Kn. 5. №72.8. P. 135. [↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 136–137[↩]
- Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 35. С. 136.[↩]
- Шеков А. В. Политическая история и география Веховских княжеств. Середина XIII — середина XVI в. М., 2018. С. 159.[↩]
- Шеков А. В. Политическая история и география Веховских княжеств. Середина XIII – середина XVI в. М., 2018. С. 159.[↩]
- Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 35. С. 232.[↩]
- Там же. С. 232; Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. М., 2010. С. 52.[↩]
- Князя Ф. И. Одоевского не было в живых к 21 февраля 1496 г. (Русская историческая библиотека, издаваемая Императорскою археографическою комиссиею. СПб., 1910. Т. 27. № 131. Стб. 650–651; № 133. Стб. 652–653), а князя М. И. Одоевского — к 27 июля 1495 г. (Акты Литовской метрики / собр. Ф. И. Леонтовичем. Варшава, 1896. Т. 1. Вып. 1. № 207. С. 81). Также см.: Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. М., 2010. С.. 160–161.[↩]
- Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 35. С. 234, 247, 249, 256.)). Князь Иван Юрьевич Одоевский был двоюродным братом князя Федора Львовича Воротынского((Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. М., 2010. С. 46, схема 2[↩]
- Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века / сост. А. В. Антонов. М., 2002. Т. 3. № 513. С. 426; Шеков А. В. Политическая история и география Веховских княжеств. Середина XIII — середина XVI в. М., 2018. С. 208. [↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 230–231, 247, 249[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 282–283, 287; ПСРЛ. Т. 8. С. 237; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. / Под. ред. В. И. Буганова. Сост. Н. Г. Савич. М., 1977. С. 60.[↩]
- Сб. РИО. Т. 35. С. 136.[↩]
- Там же. С. 232; АЛМ. Т. 1. Вып. 1. Варшава, 1896. С. 82, 95.).
Однако сами Одоевский и Воротынский уделы не считались великокняжескими пожалованиями, этими землями литовский господарь не мог распоряжаться — нет ни одного упоминания о каких-либо великокняжеских пожалованиях кому-либо в районе Одоева, Новосили или Воротынска. В отличие от своей «братии» — других черниговских княжат, Воротынские и Одоевские не превратились в обычных вотчинников и сохранили к концу столетия княжеские права. Эти права проявились не только в рассмотренных выше докончаниях с литовскими господарями. Как и подобает князьям, Воротынские и Одоевские имели собственных бояр и слуг, которых жаловали за службу селами. При этом в раздачу шли вотчины, полученные князьями от господаря. Так, боярин кн. С. Ф. Воротынского Семенка держал сельцо в Мощинской волости Смоленского повета ((АЛМ. Т. 1. Вып. 1. С. 60.[↩]
- РИБ. Т. 27. Стб. 642.[↩]
- РИБ. Т. 27. Стб. 650–652, 665–666.[↩]
- Там же. Стб. 650.[↩]
- Сб. РИО. Т. 35. С. 84.[↩]
- РИБ. Т. 27. Стб. 208.[↩]
- Сб. РИО. Т. 35. С. 21.[↩]
- Там же.[↩]
- ДПКПЛ. С. 23.[↩]
- Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – Москва : Наука, 1987. – 440 с., с. 48.[↩]
- Список погребенных в Троицкой Сергиевой лавре от основания оной до 1880 г. – Москва :
Тип. Т. Рис, 1880. – 102 с., c. 8.[↩] - Архив РАН. Ф. 620. Оп. 1. Д. 41. Л. 295 об.; Мартынов А. Русские достопамятности. Т. 4. М., 1883. С. 100; Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 133).[↩]
- Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – Москва : Наука, 1987. – 440 с., c. 48.[↩]
- Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – Москва : Наука, 1987. – 440 с., с.48[↩]
- Кириченко, Л. А. Кормовая книга Троице-Сергиева монастыря 1674 г. : исследование и публикация / Л. А. Кириченко, С. В. Николаева. – Москва : Индрик, 2008. – 519 с., с. 220.[↩]
- Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции / Подг. текста и коммент. А. А. Зимина. М., 1978. С. 65, 294[↩]
- Сборник РИО. Т. 59. С. 147[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 13. М.. 2000. С. 525[↩]
- Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 54[↩]
- Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 54[↩]
- Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 307, 316, 318, 319[↩]
- Акты служилых землевладельцев XV–начала XVII в. Т. 1. М., 1997. № 57[↩]
- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 539. Л. 413–414[↩]
- ОР РНБ Кир.-Бел. собр. № 78/1317. Л. 37 об.-40 об.; Кир.-Бел. собр. № 87/1325. Л. 81–82 об.[↩]
- Алексеев А.И. Первая редакция вкладной книги Кириллова Белозерского монастыря (1560‑е гг.) // Вестник церковной истории. 2010. № 3 (4). С. 35, 42–43.[↩]
- Сахаров И.П. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря // Записки Отделения русской и славянской филологии Императорского археологического общества. 1851. Т. 1. Отд. 3. С. 56[↩]
- Титов А.А. Вкладные и записные книги Иосифова Волоколамского монастыря XVI в. // Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. Вып. 5. М., 1906. С. 37[↩]
- ОР РНБ. СПбДА. А I/17. Л. 503, 506 об.; Черкасова М.С. Землевладение Троице-Сергиева монастыря в XV–XVI вв. М., 1996. С. 211[↩]
- РГАДА. Ф. 281. № 1234/130; ОР РНБ. СПбДА. А I/17. Л. 527–527 об.; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 1. М., 1899. С. 25; Федотов-Чеховский А.А. Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней России. Т. 1. Киев, 1860. С. 165, 187[↩]
- РГАДА. Ф. 281. № 1242/138; ОР РНБ. СПбДА. А I/17. Л. 514; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 1. М., 1899. С. 25–26[↩]
- Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1897. С. XLIX; Шаблова Т.И. Кормовое поминовение в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре в XVI–XVIII веках. СПб., 2012. С. 273, 348; Беляев Л.А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 20.[↩]
- Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов. XV–начало XVII в. М., 1998. С. 423.[↩]
- Титов А.А. Вкладные и записные книги Иосифова Волоколамского монастыря XVI в. // Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. Вып. 5. М., 1906. С. 36, 41.[↩]
- Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – Москва : Наука, 1987. – 440 с., c. 48[↩]
- Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России. В 2 томах. Том 1. 1432–1630 / собрал и издал А. А. Федотов-Чеховский. – Киев, 1860. – 407 с., № 71, c. 186–187; Описание Грамот Коллегии Экономии. Том 1. А‑И / подг. А. В. Антонов. – Москва: Древнехранилище, 2016. – 1192 с, c. 217.[↩]
- Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 г.: комментированное издание / сост. З. В. Дмитриева, М. Н. Шаромазов. – Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 1998. – 380 с., c.210, 343.[↩]
- Дмитриева, З. В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря ХVI–ХVII вв. / З. В. Дмитриева. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2003. – 343 с., c. 214, 231, 310.[↩]
- Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России. В 2 томах. Том 1. 1432–1630 / собрал и издал А. А. Федотов-Чеховский. – Киев, 1860. – 407 с., № 71, c. 186–187.[↩]
- Штайндорф, Л. Вклады и поминания в Московском государстве – явление Средневековья или Раннего нового времени? // Зубовские чтения. – Александров, 2010. – Вып. 5. – С. 113–136., c. 116.[↩]
- Алексеев, А. И. Первая редакция вкладной книги Кириллова Белозерского монастыря (1560‑е годы) / А. И. Алексеев // Вестник церковной истории. – 2010. – № 3–4. – С. 17–117., c. 214, 231, 310; Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 г.: комментированное издание / сост. З. В. Дмитриева, М. Н. Шаромазов. – Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 1998. – 380 с., с. 41, 42–43.[↩]
- Беликов В.Ю., Колычева Е.И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XV – начале XVII в.// Архив русской истории. 1992. Вып. 2. С. 93–94; Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 273[↩]
- Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 105, 108, 124, 129, 130, 132, 133, 139, 140, 148, 151, 172, 185–189, 195, 209, 210[↩]
- ОР РНБ Кир.-Бел. собр. № 78/1317. Л. 40 об., 41; Кир.-Бел. собр. № 87/1325. Л. 82 об., 83[↩]
- Воронцова Л.Д. Вкладная книга Серпуховского Высоцкого монастыря // Древности: труды Археографической Комиссии Московского Археологического общества. 1899. Т. 1. Вып. 2. С. 327[↩]
- Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1897. С. XLIX; Алексеев А.И. Первая редакция вкладной книги Кириллова Белозерского монастыря (1560‑е гг.) // Вестник церковной истории. 2010. № 3 (4). С. 73; Шаблова Т.И. Кормовое поминовение в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре в XVI–XVIII веках. СПб., 2012. С. 273, 348; Беляев Л.А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 205[↩]
- Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 147, 585.[↩]
- Полное собрание русских летописей. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1906. – Т. 13, Ч. 2: Дополнения к Никоновской летописи. Так называемая Царственная книга. – 234 с. 23. Р, с. 445.[↩]
- Полное собрание русских летописей. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1906. – Т. 13, Ч. 2: Дополнения к Никоновской летописи. Так называемая Царственная книга. – 234 с. 23. Р, с. 445.[↩]
- Андреев, Н. Е. Об авторе приписок в лицевых сводах Грозного / Н. Е. Андреев // Труды Отдела древнерусской литературы. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1962. – Т. 18. – С. 117–148., с. 146–147.[↩]
- Русский исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древностейроссийских. – Москва : Унив. тип., 1838. – Т. 2. Местничество. Дела, собранные П. И. Ивановым. – 480 с., с. 20.[↩]
- Разрядная книга 1475–1605 гг. / составитель Л. Ф. Кузьмина. – Москва : Ин‑т истории СССР, 1984. – Т. 3. – Ч. 1. – 232 с., с. 227.[↩]
- Российская государственная библиотека, Научно-исследовательский отдел рукописей. – Ф. 178. – Музейное собрание. – № 4464, л. 173.[↩]
- Беликов В.Ю., Колычева Е.И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XV – начале XVII в.// Архив русской истории. 1992. Вып. 2. С. 93–98, 118–121; Генрих Штаден. Записки о Московии. Т. 2. М., 2009. С. 87–88[↩]
- Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 57[↩]
- Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции / Подг. текста и коммент. А. А. Зимина. М., 1978. С. 49, 89–91, 95, 131, 199, 202, 254, 322, 323, 325, 327, 477, 480, 490, 491, 506, 518, 520, 521, 523[↩]
- Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 476–477[↩]
- Гиршберг В.Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV — XVII вв. Ч.I. Надписи XIV — XVI вв.// Нумизматика и эпиграфика. Т.1/ Отв. ред. Шелов Д.Б. Москва: Изд. АН СССР, Институт археологии, 1960. N 68, С.37.[↩]
- Беликов В.Ю., Колычева Е.И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XVI — начале XVII вв.// Архив русской истории. Вып.2. Москва: В типографии п/о Роскомархива, 1992. С.93–121.[↩]
- Т.В. Николаева (Загорск). Новые находки на территории Загорского музея-заповедника. — Советская археология. №1. 1973. Москва. Издательство «Наука». – с.251. Размеры надгробия: длина — 66 см, ширина вверху — 40 см, внизу — 31 см, толщина — 14 см.[↩]
- Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 116.[↩]
- Беликов В. Ю.у Колычева Е. И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XVI — начале XVII вв. // АРИ. М., 1992. Вып. 2. С. 114–117.[↩]
- Каштанов С. М., Назаров В. Д., Флоря Б. Н. Хронологический перечень имму- нитетных грамот XVI в. // АЕ за 1966 г. М., 1968. № 1–519; Павлов А. П. Государев двор. С. 159–161.[↩]
- ПК 292. Л. 15 об.-44.[↩]
- ЧОИДР. 1895. Кн. I. Отд. I. С. 1.[↩]
- ПК 291. Л. 246–259 об.; ПК 292. Л. 15 об.-65.[↩]
- ПК 11829. Л. 936‑1085 об.[↩]
- Беликов В. Ю., Колычева Е. И. Документы о землевладении князей Воротынских... С. 118.[↩]
- Белокуров С. А. Разрядные записи. С. 13, 48, 49, 123.[↩]
- ПК 425. Л. 161 и сл.; Беликов В. Ю., Колычева Е. И. Документы о землевладении князей Воротынских... С. 119.[↩]
- ПК 11829. Л. 135.[↩]
- ПК 638. Л. 10; ПК 11828. Л. 192; см. также: Холмогоровы. Вып. II. С. 43.[↩]
- Беликов В. Ю.у Колычева Е. И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XVI — начале XVII вв. // АРИ. М., 1992. Вып. 2. С. 114–117.[↩]
- Каштанов С. М., Назаров В. Д., Флоря Б. Н. Хронологический перечень имму- нитетных грамот XVI в. // АЕ за 1966 г. М., 1968. № 1–519; Павлов А. П. Государев двор. С. 159–161.[↩]
- Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 48.[↩]
- Гиршберг В.Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–XVII вв. // Нумизматика и эпиграфика. Т. 1. М., 1960. С. 37.[↩]
- Беликов В.Ю., Колычева Е.И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XVI — начале XVII вв.// Архив русской истории. Вып.2. Москва: В типографии п/о Роскомархива, 1992. С.93–121.[↩]
- РГАДА. Ф. 137. Москва. № 2. Л. 53. [↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 669. Л. 260–260 об.[↩]
- ЗВК. С. 260.[↩]
- Об этом поместье см.: ПК 11829. Л. 497.[↩]
- 39 Холмогоровы. Вып. III. С. 17; ПК 9806. Л. 112–117.[↩]
- 3BK. С. 227, 597.[↩]
- Дв. р. ІІІ, 80; Д.Р. В. XIII, 180.[↩]
- Дв. р, ІІІ[↩]
- Д.Р.В., ХХ, 117[↩]
- Дв. р. ІІІ, 557–558.[↩]
- Д.Р. В, ХIV, 75[↩]
- Дв.р., ІІІ, 1063[↩]
- Яр. с. кн. 36, д 53[↩]
- Сузд. с. кн. 31. д. 23[↩]
- Новосельский А. А. Роспись крестьянских дворов 1678 г. // И А. 1949. Т. IV. С. 123. [↩]
- Беликов В. Ю., Колычева Е. И. Документы о землевладении князей Воротынских... С. 98; Седов П. В. Челобитная князей Одоевских о своих родовых землях накануне отмены местничества // Исследования по истории средневековой Руси: К 80-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М.; СПб., 2006. С. 344.[↩]
- Седов П. В. Челобитная князей Одоевских о своих родовых землях накануне отмены местничества // Исследования по истории средневековой Руси. М.; СПб., 2006.[↩]
- Ряз. с. кн. 19029, д. 4[↩]
- Моск. с. кн. 9874, д.18[↩]
- Ряз. с. кн. 13537, д 16, и кн. 13482, д.9.[↩]
- Дв. р., ІІІ, 1114 и 1115[↩]
- Яр. с. кн. 36. д 56.[↩]
- Сузд. с. кн. 31, д 23[↩]
