Общие сведения о роде
МЕЗЕ́ЦКИЕ ― княжеский род, ветвь черниговских Рюриковичей, владевших в XIV—XVI веках небольшим удельным княжеством на Оке на земле нынешней Калужской области с центром в городе Мезецке (ныне Мещовск). Мезецкое княжество, как и большинство соседних Верховских княжеств, признавало верховную власть Великого княжества Литовского. Первым князем Мезецким считается Андрей Всеволодович Шутиха, сын тарусского князя Всеволода Всеволодовича Орехвы. В середине XVII в. род пресёкся, последний раз упоминается в 1645 году.
Титул мезецких князей достоверно появился лишь у детей князя Андрея Всеволодича к середине XV в. По всей видимости, по отцу Всеволодичи были князьями Устийскими или уже Огдыревскими. До поступления на литовскую службу они владели территорией, которая имела удобное расположение. Она непосредственно сообщалась с Белёвским уделом Новосильско-Одоевского княжества и с Козельском, которые в первой четверти XV в. находились в сфере влияния Москвы. Также вотчина Всеволодичей граничила с Карачево-Звенигородским княжеством и Мценским воеводством, которые находились в сфере влияния Литвы.
Основні джерела:
Беспалов Р.А. Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких (по опубликованным источникам).
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословной. — СПб., 1906. — Т. 1. Черниговские князья. Часть 2‑я.;
Історична географія
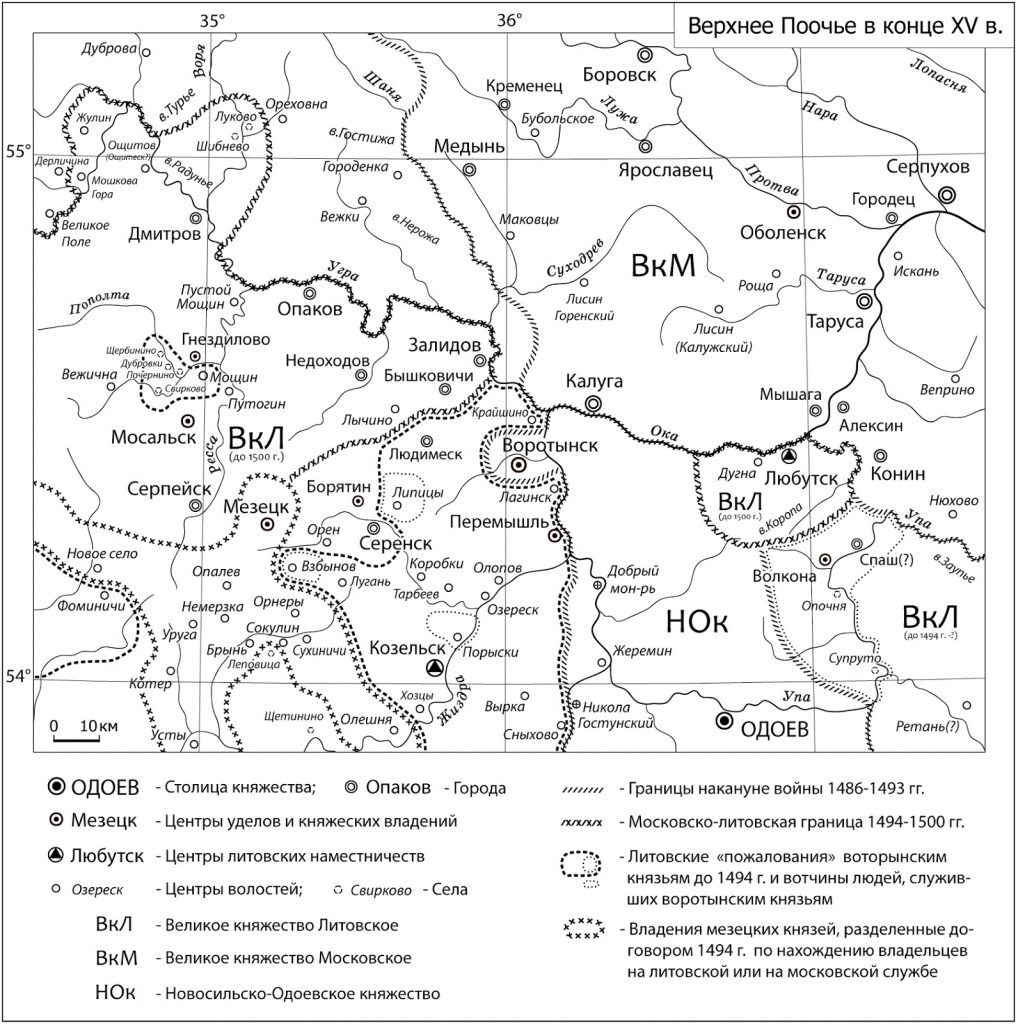
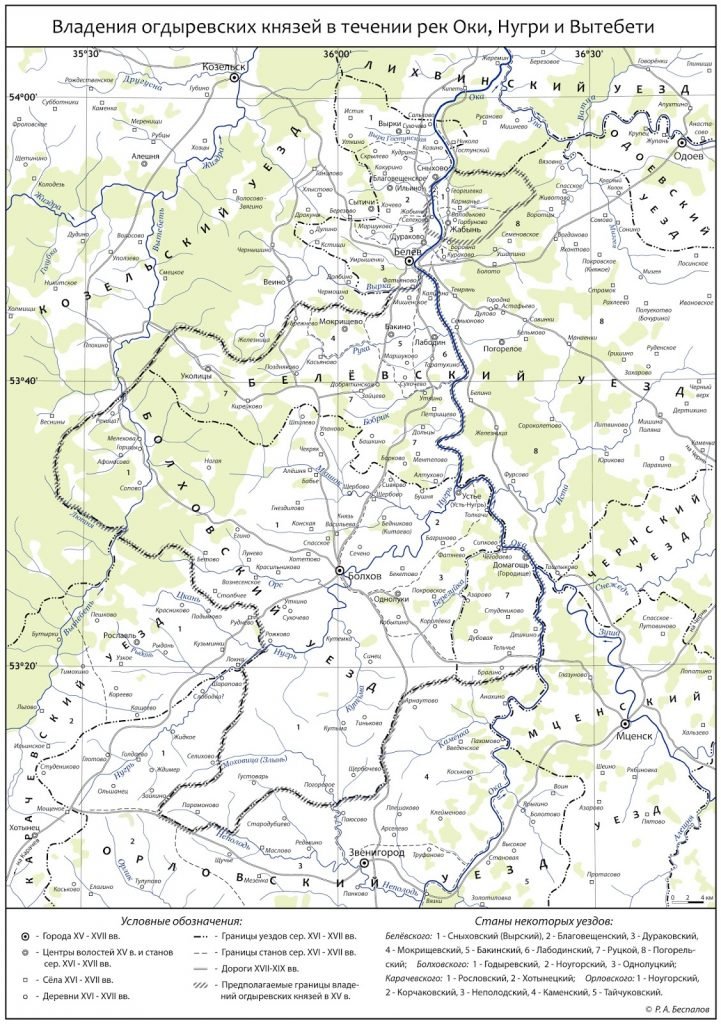
Поколенная роспись рода
Рюрик, князь Новгородский
Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945
Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972
Владимир I, великий князь Киевский +1015
Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054
Святослав II, великий князь Киевский 1027–1076
Олег Гориславич, князь Черниговский +1115
⇩
?
⇩
?
⇩
?
⇩
Михаил
Юрий Михайлович, князь Тарусский
⇩
XIII генерація от Рюрика
КН. ВСЕВОЛОД–АРЕФА ЮРЬЕВИЧ УСТИВСКИЙ И ТАРУССКИЙ.
сын кн. Юрия Михайловича Туровского и Торусского, кн. Тарусский (?), князь Устивский.
В фрагменте Введенского Печерского синодика поминают: «кн(з): Данила Романовича Новосельского и сестру его Софию; кн(з): Всеволода Оустийского, приемшаго ангельский обра(з)» 1. Важное свойство помянника черниговских князей состоит в том, что упомянутые в нем князья расположены в некоторой хронологической последовательности. Записанные рядом князья жили приблизительно в одно и то же время. Князь Даниил Новосильский, также упомянутый в Елецком синодике 2 — это сын князя Романа Семеновича Новосильского. По другим источникам он не известен, но, определенно, жил в конце XIV в. — возможно, еще и в начале XV в. Следовательно, князь Всеволод Устийский жил приблизительно в то же время, что и князь Даниил. В таком случае, напрашивается аналогия титула князя Всеволода с названием волости Устье, которой позже владели тарусские Всеволодичи на вотчинном праве. Некоторым препятствием для такого сопоставления служит родословная князей Одинцевичей, составленная в первой трети XVI в. По их росписи, у князя Юрия Тарусского (жил в XIV в.12) старшим сыном был Всеволод. От отца ему досталась Таруса, а остальным четырем сыновьям князя Юрия — другие тарусские уделы [ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. C. 282]. Свой родословец Одинцевичи составили, находясь на литовской службе. В источниках московского происхождения содержатся иные сведения. В родословной росписи оболенских князей Летописной и Патриаршей редакций, а также в росписи мезецких и баратинских князей редакции начала XVII в. Всеволод тоже назван старшим (бо́льшим) сыном Юрия, но географическая часть его титула не указана. Вторым сыном Юрия назван Константин, от которого пошли оболенские князья 3. В Румянцевском родословце, имеющем общее происхождение с Государевым родословцем 1555 г., первым сыном князя Юрия назван князь Семен Тарусский. Также тарусским князем назван его сын Дмитрий Семенович. Титул князя Всеволода (Юрьевича) не назван. Князь Константин (Юрьевич) назван Оболенским 4. В отличие от росписи Одинцевичей, эти сведения о титулах сыновей князя Юрия Тарусского имеют опору на летописи и помянники черниговских князей13. Легенда же Одинцевичей о тарусском княжении Всеволода Юрьевича другими источниками не подтверждается. Еще на рубеже XIV–XV вв. эта ветвь тарусских князей находилась на московской службе. Так, 1 июля 1493 г. на переговорах с литовскими послами московские бояре передали речи Ивана III: «мезоцкие князи изъ старины наши слуги, одны съ торусскими князми, и въ старыхъ докончаньехъ предковъ нашихъ (великих московских и великих литовских князей. — Р. Беспалов) писаны» 5. В этих словах видится указание на эпоху Витовта и Василия I. Таруса перешла под верховную власть Василия I в 1392 г. 6. Следовательно, князь Всеволод Устийский или его дети могли быть упомянуты в качестве московских слуг после этого времени, а именно — в московско-литовском договоре 1408 г., заключенном на р. Угре 7. В следующие 16 лет (до 1424 г.) московскому государю не удалось удержать тарусских Всеволодией с их вотчиной на московской службе.
Ж., [предполож.] кнж. София Романовна Новосильская, дочь кн. Романа Семёновича Новосильского.
XIV генерація от Рюрика.
2/1. КН. ДМИТРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ УСТИЙСКИЙ И ОВДЫРЕВСКИЙ[?] (1424,† 1440/50)
кн. Тарусский, сын Всеволода Юрьевича.
Огдыревские князья являлись ветвью тарусских князей и происходили от князя Всеволода Юрьевича. Его сыновья князья Дмитрий и Андрей в верховьях Оки имели свой город, вместе с которым перешли на службу к великому князю литовскому Витовту. Впервые на литовской службе они упомянуты в летописных сведениях, описывающих события осени 1424 г- великий князь Витовт посылал его к Одоеву против татар. При этом не указана географическая часть их титула 8. У Витовта они выслужили город Мезецк (Мезческ, Мещёвск) и ряд волостей в западной (литовской) части Верхнего Поочья. Мезецк был пожалован им в вотчину и к середине XV в. стал для них новым административным центром. Так отпрыски Всеволодичей приобрели новое для себя прозвище князей Мезецких. Вместе с тем, в их роду еще сохранялась ветвь князей Огдыревских, которая существовала еще в середине XVI в. Литовские владения мезецких князей хорошо известны в историографии и отображены на исторических картах, в частности, в работах М.К. Любавского, С.М. Кучиньского, А.В. Шекова, В. Н. Темушева 9.
О формировании землевладений мезецких князей в XV в. известно преимущественно из ретроспективных данных. Так, в ходе событий 1489–1493 гг. часть мезецких князей перешла от Литвы на московскую службу, и встал вопрос о разделе их дольниц на литовскую и московскую части. 30 января 1494 г. на переговорах с московскими боярами литовские послы заявили, что «Мезческъ съ волостьми — данье государей нашихъ (литовских. — Р. Б.) мезоцкимъ княземъ». В этой связи они предложили: «Ино у вашего государя (Ивана III. — Р. Б.) которые мезоцкие князи, те бы отчину свою ведали, волости торуские, съ чемъ приехали къ нашимъ (литовским. — Р. Б.) государемъ: Говдыревъ, да Устье, да Жебынь; а данье государей нашихъ (литовских. — Р. Б.) — то было бы темъ княземъ (мезецким — Р. Б.), которые служат нашему государю (Александру. — Р. Б.)» 10.Московские бояре провели сравнительный анализ этих двух документов, на основании которого можно восстановить перечень городов и волостей мезецких князей из несохранившейся грамоты Сигизмунда. Среди них были исконные вотчины Всеволодичей, с которыми они прибыли на литовскую службу: «Агдыревъ, Устье, Жабынь»; кроме того, «выслуженный» ими у Витовта город «Мезческъ» с рядом волостей; а также волости, «приданные» им Сигизмундом: «Силковичи да Новое Село». Отсюда же становится известным, что в течении р. Оки у Всеволодичей появились волости: Лабодин и Рука. В начале 1440‑х гг. князь Дмитрий Всеволодич получил от великого князя литовского Казимира «на отчину его подтверженье, на Мещескъ и Колковичи». То есть на пожалование Витовта Мезецк (с волостями) и «приданное» Сигизмунда Силковичи (с Новым Селом). Также князь Дмитрий получил еще ряд волостей, которые были даны ему только на время, «до воли» великого князя, и в дальнейшем не закрепились за семейством Всеволодичей 11. К сожалению, мы не располагаем жалованной грамотой Витовта на Мезецк, выданной Всеволодичам. Также не сохранилась жалованная грамота Свидригайла, которому подчинялся Мезецк и которому, видимо, служили Всеволодичи в 1430–1436 гг. [Коцебу, 1835. Прибавление 2. C. 8]. Сведения грамоты Казимира сохранились в выписке. В ней сначала описывается Мезецк и его округа. Затем читается фрагмент: «Огдырев, Олешна, Устье, Лабодин, Жабын, Рука» [LM. Kn. 3. P. 44; РИБ. Т. 27. Стб. 64–65]. Здесь только Олешня выпадает из огдыревской округи, но она была связующим звеном на пути из Гдырева в Мезецк. В посольском списке конца XV в. города Мезчоск и Акдырев стояли в самом начале отдельно, а в конце читался фрагмент: «Рука, Лабодинъ, Устье, Жабынъ, Бакино» [СИРИО. Т. 35. C. 118, 137]. Здесь тоже оказывается, что Рука, Лабодин и Бакино попадали не в перечень волостей Мезецка и Силковичей, как пожалования Витовта и Сигизмунда, а в перечень Гдырева, Устья и Жабыни, не принадлежавших Литве. Однако в конце XV в. Рука, Лабодин и Бакино не назывались в перечне исконных вотчин Всеволодичей. В этой связи можно предположить, что эти волости до 1435–1440 гг. могли выделиться, например, из состава Жабыни или появились у них во время их литовской службы каким-то иным способом. Затем Рука, Лабодин (из которых затем выделилось и Бакино) заодно были вписаны в Сигизмундову грамоту. Примечательно, что 1430‑е гг. — это период малолетства белёвских князей Василия и Федора Михайловичей [Беспалов, 2010. C. 32–34], наследники которых впоследствии стали претендовать на волости Руку, Лабодин и Бакино. На волость Жабынь претендовали и другие князья новосильского дома (одоевские и воротынские). По всей видимости, в XV в. данная территория составляла предмет спора между мезецкими и новосильскими князьями. По смерти князь Дмитрий Всеволодич не оставил мужского потомства 12,ок. 1440 великий князь Казимир подтвердил за ним его отчину Мещовск и Колковичи; † до 1450 бездетным.
3/1. КН. АНДРЕЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ ШУТИХА УСТИЙСКИЙ И ГОВДЫРЕВСКИЙ († 1422/1440)
кн. Мезецкий (?), сын Всеволода Юрьевича Устивского. По смерти князь Дмитрий Всеволодич не оставил мужского потомства 13, и все вотчины семейства отошли к его родному брату князю Андрею Шутихе. В записях Литовской метрики, а также в Любецком и Введенском Печерском синодиках географическая часть титула князя Дмитрия и Андрея Всеволодичей все еще не указывалась 14. В 1424 великий князь Витовт посылал его к Одоеву против татар.
∞, Евпраксия.
XV генерація от Рюрика.
4. КН. АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ШУТИЧИЧ БАРЯТИНСКИЙ родоначальник Барятинских
кн. Барятинский, по всей видимости, старший сын князя Андрея Шутихи Всеволодича и Евпраксии.15 Князь Александр Андреевич умер раньше своего отца, а его дети унаследовали волость Барятин, может быть еще какие-то волости, но в дальнейшем больше не смогли претендовать на Мезецк. От них произошла ветвь князей Барятинских 16. Четверо сыновей покойного князя Александра Андреевича уже не претендовали на долю в Мезецке. Они унаследовали Барятин, а может быть, и еще какие-то мезецкие волости или села. И хотя в источниках Барятин не называется городом, эта обособившаяся ветвь князей уже носила прозвище Барятинских 17.
5. КН. ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1443)
2‑й сын Андрея Шутихи Всеволодовича и Евпраксии18, кн. Мезецкий. Упом. въ мирномъ договорѣ Іоанна III съ В. К. Александромъ Литовскимъ, при чемъ указываются его сыновья князья Ѳедоръ сухой и Василій Ѳедоровичи.[Крмз. VI, при. 396.] Ок. 1450 г. вмѣстѣ съ братомъ Романомъ и Иваномъ получили подтвердительную грамату кор. Казиміра на выслуженныя ихъ отцемъ и дядею у Витовта владѣнія: Мещовскъ, Оренъ, Сулковичи, Сухиничи, Дубровну, Огдыревъ, Устье, Лабодинъ и др. [Вольф. 358].
Титул мезецких князей достоверно появился лишь у детей князя Андрея Всеволодича к середине XV в. По всей видимости, по отцу Всеволодичи были князьями Устийскими или уже Огдыревскими. До поступления на литовскую службу они владели территорией, которая имела удобное расположение. Она непосредственно сообщалась с Белёвским уделом Новосильско-Одоевского княжества и с Козельском, которые в первой четверти XV в. находились в сфере влияния Москвы. Также вотчина Всеволодичей граничила с Карачево-Звенигородским княжеством и Мценским воеводством, которые находились в сфере влияния Литвы.
6. КН. РОМАН АНДРЕЕВИЧ ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1443, ум. 1483 или 1470+до)
3‑й сын Андрея Всеволодовича и Евпраксии19, кн. Мезецкий. Ок. 1450 г. тоже, что у брата Ѳедора. 1470, май, выдалъ дочь свою кж. Елену за кн. Андрея Васильевича Углицкаго.[Крмз. ѴІ. прм. 629].
7. КН. ИВАН АНДРЕЕВИЧ ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКИЙ, ИН. ИОНА (1456,1490)
4‑й сын Андрея Всеволодовича и Евпраксии.20, кн. Мезецкий; <третью часть в городе в Мезецку> продал кн.Петру.
Ок. 1450 г. вмѣстѣ съ братомъ Федором и Романомъ получили подтвердительную грамату кор. Казиміра на выслуженныя ихъ отцемъ и дядею у Витовта владѣнія: Мещовскъ, Оренъ, Сулковичи, Сухиничи, Дубровну, Огдыревъ, Устье, Лабодинъ и др. [Вольф. 358].
1490 г. получилъ 6 копъ грошей, и 1494
продалъ свою треть г. Mещовска племяннику князю Петру Ѳедоровичу. [Вольф. 258; СИО, 152]. В 1486.03.06 получал «8 коп з мыта Смоленского» вотч. в Говдыреве, Дубровне, Устье и др.
Накануне войны города Мезецк и Гдырев с «тянувшими» к ним волостями были общей родовой собственностью потомков князя Андрея Всеволодича. Землевладения Мезецких делились не на уделы (отдельные города и волости), а на дольницы. Тот или иной князь в каждом городе или волости мог иметь свою долю [СИРИО. Т. 35. C. 246–247]. В волостях и селах помещались княжеские слуги, которые на местах несли административную и военную службу. Мезецкая и огдыревская округи хотя и были разделены территориально, но Гдырев тоже был общей родовой вотчиной, поделенной между князьями на доли по завещаниям предков, поэтому на данном этапе его уже сложно выделить из общей мезецкой истории. Другие же три ветви потомков князя Андрея Всеволодича делили Мезецк, Гдырев и бо́льшую часть их волостей по третям (табл. 1; схема 1) [LM. Kn. 3. P. 44; РИБ. Т. 27. Стб. 64–65].
К середине 1480‑х гг. в живых оставался только один из сыновей князя Андрея Всеволодича — князь Иван Андреевич, который не имел детей и единолично владел третью Мезецка в городе и в селах.21. Слѣпой отъ рожденія. [Вольф., 8].
бездетн.
КНЖ. МАРФА АНДРЕЕВНА ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКАЯ
Дочь Андрея Всеволодовича и Евпраксии.22
КНЖ. АКСИНЬЯ АНДРЕЕВНА ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКАЯ
Дочь Андрея Всеволодовича и Евпраксии.23
∞, кн. Федор Андреевич Одинцевич (ок.1410‑п.1422),
КНЖ. ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКАЯ
Дочь Андрея Всеволодовича и Евпраксии.24
Ю. В. Татищевъ показываетъ согласно съ Вольфомъ, что княжна Авдотья Андреевна была за кн. Иваномъ Семеновичемъ Бабою Друцкимъ, Зотовъ же называетъ мужа ея княземъ Ѳедоромъ Соколинскимъ, т. е. считаетъ ее женою сына кн. Ивана Семеновича Бабы. Вольфъ и Зотовъ ссылаются оба на одинъ и тотъ же источникъ, на Лѣтопись Данилевича. Вольфъ выражаетсяочень опредѣлительно: «жена его (князя Ивана Семеновича Бабы) навѣрное (niezawodnie) княжна Авдотья, дочь князя Андрея Шутихи князя Тарусскаго-Мезецкаго, о которой Лѣтописецъ упоминаетъ, что была бабкой Конопли, князя Ѳедора маткой. [Вольф. 60|. Можетъ быть это упоминаніе лѣтописца и было причиной ошибки у Р. Вл. Зотова, такъ какъ первый князь съ прозвищемъ Конопли былъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ, сынъ князя Ѳедора Ивановича Соколинскаго и внукъ князя Ивана Семеновича Бабы Друцкаго.
∞, кн. Иван Баба Семенович Друцкий.
XVI генерація от Рюрика.
КН. МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ († до 1494)
Сын Федора Андреевича Всеволодовича.25 Умер до 1494 г.
Б/д
КН. ФЁДОР ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ, ПР. СУХОЙ (1484, † 1515, Мещера)
Сын Федора Андреевича Всеволодовича.26
1487, принимаетъ участіе въ предпріятіяхъ дяди своего, кн. Ивана Андреевича М., въ нападеніяхъ на владѣнія князей Одоевскихъ, находившихся въ Русскомъ подданствѣ.27 После отъезда Михаила Романовича на Москву на литовской службе еще оставались князья Федор Сухой и Василий Федоровичи Мезецкие. Вероятно, им удалось бежать от преследования своего двоюродного брата Михаила Романовича, однако в плен была захвачена жена князя Федора [СИРИО. Т. 35. C. 141]. По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович 28, а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу 29. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья 30. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. Из-за спорных территорий между литовскими слугами князьями Петром и Федором Федоровичами, с одной стороны — и московскими слугами князем Михаилом Романовичем и его огдыревским родичами, с другой стороны, постоянно стали происходить конфликты. Так, еще до августа 1494 г. князь Федор Сухой поймал слугу своих огдыревских племянников по имени Лобана и отнял у них 25 душ челяди вотчинной (подневольных крестьян). Московские дипломаты просили их вернуть [СИРИО. Т. 35. C. 154]. Весной 1495 г. уже князья Петр и Федор жаловались на своих родичей — московских слуг. Те отвечали, что перед ними невинны, и в свою очередь сами жаловались на них. Дипломатия заставляла Ивана III соглашаться с тем, что достигнутые договоренности надо выполнять. Выражая свою приверженность к соблюдению мира, московский государь заверял, что он своим людям и слугамукраинным «лиха не велитъ чинити», а приказывает придерживаться докончания и во всех обидных порубежных делах вместе с литовскими судьями давать управу «на обе стороны».31
1498 , март., Литовскій подданный, за нимъ, съ братомъ Петромъ, во владѣніи состояли: Огдыревъ, Олешня, Руца, Вакиня, Устье, Жобыни, Лаводиня и Хожци. [СИО., 246] 1498, получилъ привилей на Городечно въ Смолешцинѣ.[ЮТ. 58]
† 1515, убит в Мещере.[Брх. I, 209; Увар. родос. № 206, л. 78—7; Вольф., 259].
Литература: Р. А. Беспалов. Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких (по опубликованным источникам).
КН. ПЁТР ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1484, † 1494/1507)
Сын Федора Андреевича Федоровича.32.
1487, получилъ 6 копъ грошей изъ скарба и съ мыта Смоленскаго.[ют. 58]
Другую треть в Мезецке унаследовали пятеро сыновей покойного князя Федора Андреевича: Михаил, Петр, Федор Сухой, Василий Кобяка и Иван Огдыревский 33. Бездетного князя Михаила Федоровича, вероятно, уже не было в живых. Князь Петр Федорович мужского потомства тоже не имел, но ему, видимо, принадлежало старшинство в этой ветви. Из всех князей рода только князь Иван Федорович и его потомки носили титул Огдыревских. Вероятно, они имели наиболее значительную долю в Гдыреве. Впрочем, еще в начале XVI в. за ними была какая-то доля и в мезецкой округе, например, в Брыни [СИРИО. Т. 41. C. 442]. Старшие князья Иван Андреевич и Петр Федорович были наиболее влиятельны. Сохранились сведения о получении ими денежных пожалований на литовской службе [LM. Kn. 4. №16.4. P. 59; №23.15. P. 88]. В начале августа 1487 г. люди мезецких князей напали на вотчину одоевских Семеновичей, «много лиха учинили; жены, дети головами повели». Слуги последних вместе с людьми князей Ивана Перемышльского и Ивана Белёвского пустились за ними в погоню. Те же въехали в город Мезецк и затворились в нем. Одоевские бояре обратились к мезецким князьям, чтобы «полонъ ихъ и грабежь велели отдати, а лихихъ бы показнили». Однако на них напали сами мезецкие князья: Михаил Романович, Иван Огдыревский, Федор Сухой, Петр и Василий Федоровичи вместе со своими людьми и с людьми князя Семена Воротынского. В итоге некоторые одоевские, перемышльские и белёвские люди были побиты до смерти, а иные были взяты в плен. По сведениям посольских книг, еще при жизни Казимира († 7 июня 1492 г.) князь Петр Федорович купил треть в Мезецке (в городе и в селах), принадлежавшую своему дяде, бездетному князю Ивану Андреевичу [СИРИО. Т. 35. C. 147, 152, 230]. Заинтересованным лицом в этой сделке также была жена князя Ивана — Софья. По законодательству Великого княжества Литовского, бездетный князь мог продать только треть своего имения без согласия всех своих родственников [Любавский, 1892. C. 561–566]. Нет ясности, купил ли князь Петр Федорович треть отчины князя Ивана Андреевича (1/9 Мезецка) или все его имение (1/3 Мезецка). Суть дела, видимо, состояла в том, что князь Иван Андреевич по старости больше не мог нести военную службу. После его смерти его наследницей должна была стать его жена и владеть его имением до своей смерти или до того момента, как она выйдет замуж [Любавский, 1892. C. 569]. В таком случае, часть Мезецка на время отчуждалась бы от господарской службы. Видимо, в этой связи король Казимир позволил князю Петру Федоровичу совершить куплю, нести с нее службу и при этом, видимо, опекать престарелого дядю и его жену. Во всяком случае, так князь Петр Федоровичстал самым крупным землевладельцем в роду мезецких князей.
Во второй половине 1492 г. на сторону Москвы перешли князья Семен Федорович Воротынский и Михаил Романович Мезецкий. Заодно они захватили города Серпейск и Мезецк, а также ряд других городков и волостей Верхнего Поочья [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 334]. Кроме того, князь Михаил Мезецкий «изымавъ, приведе съ собою дву братовъ, князя Семена (Романовича. — Р. Б.) да князя Петра (Федоровича. — Р. Б.). И князь велики (Иван III. — Р. Б.) ихъ послалъ въ заточение въ Ярославль, а князя Михаила пожаловалъ его же отчиною и повелелъ ему себе служити» [ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. C. 227; РК-1598. C. 22; РК-1605. Т. 1. C. 32–33]20. Позже, 6 февраля 1493 г., московский посол Дмитрий Загрязский сообщил об этих «отъездах» новому литовскому господарю Александру Казимировичу [СИРИО. Т. 35. C. 81; ОДБ МАМЮ. Т. 21. C. 3. №18].
29 августа 1494 г. в Москве литовский посол Лютавор Хребтович передал грамоту Александра Казимировича, составленную 11 июня того же года. В частности, в ней говорилось: «прислалъ до насъ слуга нашъ князь Петръ Мезецкий, жалуючи, чтожъ онъ купилъ былъ въ дяди своего, князя Ивана Андреевичя въ мезецкого, третью чясть въ городе въ Мезоцку, и въ месте (в городе. — Р. Б.) и въ селахъ, ещо за отца нашего, короля его милости». Однако московский слуга князь Михаил Романович Мезецкий отнял все то, что он купил. Литовский господарь просил «оправити», то есть разрешить этот спор в судебном порядке и отступиться от названной мезецкой трети в пользу князя Петра Федоровича [СИРИО. Т. 35. C. 147–148]. Иван III подтвердил, что эту дольницу держит за собой его слуга князь Михаил Мезецкий, но вдруг заявил, что «Месческъ былъ весь нашъ. А которые князи мезоцкие служатъ великому князю Александру, ино имъ написано въ докончание ведати вотчины свои долници. А о князе Петре написано жъ, что ему ведати своя отчина, долница своя. А что не писано въ докончание, ино то все наше. А тою третью княжою Ивановою пожаловали есмя слугу своего князя Михайла Романовичя Мезецкого» [СИРИО. Т. 35. C. 152]. К зиме 1497–1498 гг. обострился еще один конфликт, не менее крупный, чем с Мезецком и с мезецкой третью (дядьковщиной). Князья Петр и Федор Сухой Федоровичи заявили, что у них была дольница в городе Гдыреве и в волостях Устье, Жабыни, Руке, Бакине, Лабодине, Олешне и Хозце. Однако княгиня Алена Окдыревская и иные ее родичи наслали своих слуг на их отчину и забрали ее себе. Кроме того, поймали и заточили 36 их слуг (военных служилых людей) и теперь «не хочутъ имъ делницы дати въ городе и у волостехъ сполна». Иван III отвечал: «мы своихъ слугъ, мезоцкихъ князей, вспрашивали, и они намъ сказывали, что въ ихъ вотчину въ ихъ долници у нихъ не вступаются, ни людей своихъ на нихъ не посылывали, ни людей ихъ не имывали, ни грабливали». Он предлагал слать своих судей и судить на обе стороны по докончанию, но трактовал его в пользу Москвы, дабы литовские слуги ведали свои дольницы, «а что не писано въ докончанье, ино то все наше», в том числе весь Мезецк [СИРИО. Т. 35. C. 246–247, 248–249; LM. Kn. 5. 2012. P. 246]. Так за короткое время в руках московских слуг оказался весь город Мезецк, весь город Гдырев с его поокской округой, а также соединявшие их Олешня и Хозцы. Литовским слугам остались лишь их доли в мезецких волостях: Немерзках, Уруге, Брыни, Сокулине, Сухиничах, Которе, Дубровке, Устах, Силковичах и в Новом Селе. Да и теми они владели не сполна, поскольку и в них имелись доли их мезецких и огдыревских родичей, которые находились на московской службе.
6 января 1507 г. гаспадар пра пажалаванне маёнткаў княгіні Апрані, жонцы князя Пятра Мязецкага, пяці службаў людзей на Дубровенскім шляху замест маёнткаў, якія былі захоплены маскоўскім войскам 34. Это пожалованіе въ 1508 г. отдано окольничему Смоленскому Богдану Сапѣгѣ.
[Sapiehowie, I, 5]
∞, ОПРАНИЯ (1507)
Б/д.
КН. ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ, ПР. КУКУБЯКА (1487,1494)
Сын Федора Андреевича Всеволодовича.35
Около 1487 г. принималъ участіе въ нападеніяхъ на владѣнія русск. подданнаго, кн. Семена Одоевскаго.[сио, 4—5]. После отъезда Михаила Романовича на Москву на литовской службе еще оставались князья Федор Сухой и Василий Федоровичи Мезецкие. Вероятно, им удалось бежать от преследования своего двоюродного брата Михаила Романовича, однако в плен была захвачена жена князя Федора [СИРИО. Т. 35. C. 141]. По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович [СИРИО. Т. 35. C. 156, 157], а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу [СИРИО. Т. 35. C. 141]. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья [СИРИО. Т. 35. C. 152]. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. 29 августа 1494 г. в Москве литовский посол Лютавор Хребтович передал грамоту Александра Казимировича, составленную 11 июня того же года. В частности, в ней говорилось: «прислалъ до насъ слуга нашъ князь Петръ Мезецкий, жалуючи, чтожъ онъ купилъ былъ въ дяди своего, князя Ивана Андреевичя въ мезецкого, третью чясть въ городе въ Мезоцку, и въ месте (в городе. — Р. Б.) и въ селахъ, ещо за отца нашего, короля его милости». Однако московский слуга князь Михаил Романович Мезецкий отнял все то, что он купил. Литовский господарь просил «оправити», то есть разрешить этот спор в судебном порядке и отступиться от названной мезецкой трети в пользу князя Петра Федоровича [СИРИО. Т. 35. C. 147–148]. Иван III подтвердил, что эту дольницу держит за собой его слуга князь Михаил Мезецкий, но вдруг заявил, что «Месческъ былъ весь нашъ. А которые князи мезоцкие служатъ великому князю Александру, ино имъ написано въ докончание ведати вотчины свои долници. А о князе Петре написано жъ, что ему ведати своя отчина, долница своя. А что не писано въ докончание, ино то все наше. А тою третью княжою Ивановою пожаловали есмя слугу своего князя Михайла Романовичя Мезецкого» [СИРИО. Т. 35. C. 152]. Накануне заключения мирного договора Мезецк был захвачен князем Михаилом Романовичем и действительно был московским. Однако в договоре было написано, что и литовские слуги «в Мезецку в городе и в волостех ведают свои отчыны, делницы свои». Иван III игнорировал не только законную «куплю» князя Петра Федоровича, но и положение московско-литовского договора. Тот же ответ был дан в марте 1497 г. и в марте 1498 г. [СИРИО. Т. 35. C. 230, 249]. Иск литовской стороны так и не был удовлетворен.Из-за спорных территорий между литовскими слугами князьями Петром и Федором Федоровичами, с одной стороны — и московскими слугами князем Михаилом Романовичем и его огдыревским родичами, с другой стороны, постоянно стали происходить конфликты. Так, еще до августа 1494 г. князь Федор Сухой поймал слугу своих огдыревских племянников по имени Лобана и отнял у них 25 душ челяди вотчинной (подневольных крестьян). Московские дипломаты просили их вернуть [СИРИО. Т. 35. C. 154]. Весной 1495 г. уже князья Петр и Федор жаловались на своих родичей — московских слуг. Те отвечали, что перед ними невинны, и в свою очередь сами жаловались на них. Дипломатия заставляла Ивана III соглашаться с тем, что достигнутые договоренности надо выполнять. Выражая свою приверженность к соблюдению мира, московский государь заверял, что он своим людям и слугам украинным «лиха не велитъ чинити», а приказывает придерживаться докончания и во всех обидных порубежных делах вместе с литовскими судьями давать управу «на обе стороны» [СИРИО. Т. 35. C. 195].К зиме 1497–1498 гг. обострился еще один конфликт, не менее крупный, чем с Мезецком и с мезецкой третью (дядьковщиной). Князья Петр и Федор Сухой Федоровичи заявили, что у них была дольница в городе Гдыреве и в волостях Устье, Жабыни, Руке, Бакине, Лабодине, Олешне и Хозце. Однако княгиня Алена Окдыревская и иные ее родичи наслали своих слуг на их отчину и забрали ее себе. Кроме того, поймали и заточили 36 их слуг (военных служилых людей) и теперь «не хочутъ имъ делницы дати въ городе и у волостехъ сполна». Иван III отвечал: «мы своихъ слугъ, мезоцкихъ князей, вспрашивали, и они намъ сказывали, что въ ихъ вотчину въ ихъ долници у нихъ не вступаются, ни людей своихъ на нихъ не посылывали, ни людей ихъ не имывали, ни грабливали». Он предлагал слать своих судей и судить на обе стороны по докончанию, но трактовал его в пользу Москвы, дабы литовские слуги ведали свои дольницы, «а что не писано въ докончанье, ино то все наше», в том числе весь Мезецк [СИРИО. Т. 35. C. 246–247, 248–249; LM. Kn. 5. 2012. P. 246]. Так за короткое время в руках московских слуг оказался весь город Мезецк, весь город Гдырев с его поокской округой, а также соединявшие их Олешня и Хозцы. Литовским слугам остались лишь их доли в мезецких волостях: Немерзках, Уруге, Брыни, Сокулине, Сухиничах, Которе, Дубровке, Устах, Силковичах и в Новом Селе. Да и теми они владели не сполна, поскольку и в них имелись доли их мезецких и огдыревских родичей, которые находились на московской службе.
В результате войны 1500–1503 гг вскоре Мезецк полностью перешел во владения Ивана III. Московский государь выменял его у князя Михаила Мезецкого на волость Олексин в Стародубе ряполовском [ДДГ. №89. C. 355]. Около марта — апреля 1504 г. Иван III составил духовную грамоту, которой завещал своему сыну князю Дмитрию «город Месческъ с волостми, и с погосты, и з селы, и со всеми пошлинами, со всемъ, что к нему потягло, как был за мезетцкими князми», а кроме того «город Опаков со всемъ, что к нему потягло, да волости Залидов, Недоходово, Лычино, Бышковичи по Угру». Вместе с тем, Барятин, Орен, Хозцы и Алешня — отошли к Козельску [ДДГ. №89. C. 360]. Исконные вотчины огдыревских князей Гдырев, Устье и Жабынь, а также волости огдыревской округи Рука, Лабодин и Бакино — тоже не были подчинены князю Дмитрию Ивановичу. В этой связи, сформировавшийся в дальнейшем Мещёвский уезд стал сильно отличаться от той территории, которой ранее владели мезецкие князья. В московсколитовском договоре 1508 г. мезецкие князья уже не упоминались, а «городъ Месческъ с волостми» был отнесен к владениям братьев Василия III [LM. Kn. 8. №80. P. 126–127].
[Р. А. Беспалов. Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких (по опубликованным источникам)]
КН. ИВАН ФЕДОРОВИЧ ГОВДЫРЕВСКИЙ
Сын Федора Андреевича Федоровича.36
1487 г., Іоаннъ III жалуется Вел. Кн. Литовскому на кн. Ивана Говдыревскаго, что онъ съ братьями нападаетъ на владѣнія русскаго подданнаго кн. Семена Одоевскаго. [сио, 4—5]. Другую треть в Мезецке унаследовали пятеро сыновей покойного князя Федора Андреевича: Михаил, Петр, Федор Сухой, Василий Кобяка и Иван Огдыревский 37. Бездетного князя Михаила Федоровича, вероятно, уже не было в живых. Князь Петр Федорович мужского потомства тоже не имел, но ему, видимо, принадлежало старшинство в этой ветви. Из всех князей рода только князь Иван Федорович и его потомки носили титул Огдыревских. Вероятно, они имели наиболее значительную долю в Гдыреве. Впрочем, еще в начале XVI в. за ними была какая-то доля и в мезецкой округе, например, в Брыни 38. В речах московского посла, составленных к 4 января 1493 г., не упоминалось об огдыревских князьях. Князя Ивана Федоровича, видимо, уже не было в живых, но до конца 1493 г. на московскую сторону перешла его жена Алена и дети Василий и Федор Ивановичи 39.
К зиме 1497–1498 гг. обострился еще один конфликт, не менее крупный, чем с Мезецком и с мезецкой третью (дядьковщиной). Князья Петр и Федор Сухой Федоровичи заявили, что у них была дольница в городе Гдыреве и в волостях Устье, Жабыни, Руке, Бакине, Лабодине, Олешне и Хозце. Однако княгиня Алена Окдыревская и иные ее родичи наслали своих слуг на их отчину и забрали ее себе. Кроме того, поймали и заточили 36 их слуг (военных служилых людей) и теперь «не хочутъ имъ делницы дати въ городе и у волостехъ сполна». Иван III отвечал: «мы своихъ слугъ, мезоцкихъ князей, вспрашивали, и они намъ сказывали, что въ ихъ вотчину въ ихъ долници у нихъ не вступаются, ни людей своихъ на нихъ не посылывали, ни людей ихъ не имывали, ни грабливали». Он предлагал слать своих судей и судить на обе стороны по докончанию, но трактовал его в пользу Москвы, дабы литовские слуги ведали свои дольницы, «а что не писано въ докончанье, ино то все наше», в том числе весь Мезецк [СИРИО. Т. 35. C. 246–247, 248–249; LM. Kn. 5. 2012. P. 246]. Так за короткое время в руках московских слуг оказался весь город Мезецк, весь город Гдырев с его поокской округой, а также соединявшие их Олешня и Хозцы. Литовским слугам остались лишь их доли в мезецких волостях: Немерзках, Уруге, Брыни, Сокулине, Сухиничах, Которе, Дубровке, Устах, Силковичах и в Новом Селе. Да и теми они владели не сполна, поскольку и в них имелись доли их мезецких и огдыревских родичей, которые находились на московской службе.
∞, АЛЕНА. Ок. 1498 , посылала своихъ людей грабить владѣнія князей Мезецкихъ, оставшихся въ Литовскомъ подданствѣ. [СИО, 246; Сбор. Мухан. 93].
КН. СЕМЕН РОМАНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1518)
Сын Романа Андреевича Всеволодовича.40
Еще одной мезецкой третью владели сыновья покойного князя Романа Андреевича — Семен и Михаил Романовичи, имевшие мужское потомство [СИРИО. Т. 35. C. 4, 7, 121 и др.; Родословная книга, 1851. C. 72]. Их сестра Елена Романовна 27 мая 1470 г. была выдана замуж за углицкого князя Андрея Васильевича Большого (брата Ивана III) [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 169]. И хотя зимой 1483 г. она умерла [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 317], но успела оставить после себя потомство. В верховьях Оки князь Андрей Большой владел Медынью, [ДДГ. №72. C. 258], что создавало дополнительные возможности для его порубежных контактов и для оказания влияния на политические взгляды его мезецких шуринов.
Во второй половине 1492 г. на сторону Москвы перешли князья Семен Федорович Воротынский и Михаил Романович Мезецкий. Заодно они захватили города Серпейск и Мезецк, а также ряд других городков и волостей Верхнего Поочья 41. Кроме того, князь Михаил Мезецкий «изымавъ, приведе съ собою дву братовъ, князя Семена (Романовича. — Р. Б.) да князя Петра (Федоровича. — Р. Б.). И князь велики (Иван III. — Р. Б.) ихъ послалъ въ заточение въ Ярославль, а князя Михаила пожаловалъ его же отчиною и повелелъ ему себе служити» [ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. C. 227; РК-1598. C. 22; РК-1605. Т. 1. C. 32–33]20. Позже, 6 февраля 1493 г., московский посол Дмитрий Загрязский сообщил об этих «отъездах» новому литовскому господарю Александру Казимировичу [СИРИО. Т. 35. C. 81; ОДБ МАМЮ. Т. 21. C. 3. №18].
Вскоре поступил на службу к Ивану III и в 1494 водил передовой полк к Великим Лукам против литовцев. В 1495 ходил с великим князем к Новгороду Великому. После Ведрошской битвы (1500) прислан в помощь воеводам в большой полк. В 1501 служил наместником в Новгороде и в апреле был направлен воевать литовские волости. В 1506—1507 воевода в Белой. «Князь Семен Романович Мезецкой при великом князе Иване Васильевиче всея Руси на Белой розведен в отечестве с прадедом с Васильевым Олферьева, с Олферьем Филиповичем, и грамоты розводные Олферью на князя Семена даны.» 42 Упоминание об этом «случае» содержится в местническом деле кн. В. В. Литвинова-Мосальского и Р. В. Алферьева 1572 г.: «А дед же, государь, мой Олферей был послан от отца твоего, государя нашего, в Литовскую землю: в большом полку князь Семен Мезецкой, в передовом полку дед мой Олферей, и грамота невместная деду моему на князь Семена дана» 43. Алферий Филиппович являлся родоначальником фамилии Aлфepьeвыx-Нащокиных. 1509, четвертый воевода бол. полка на Угрѣ. [Разр. кн. Ромодан. II] 1512, велѣно его примкнуть къ бол. п. на Угрѣ, при оборонѣ Бѣлевскихъ мѣстъ отъ нашествія Крымскихъ царевичей. [Милюк. 45, 47]. 1512—3 , въ Смоленскомъ пох. воев. сторож, п. на Угрѣ, потомъ въ Дорогобужѣ. [Милюк. 51; Разр. кн. Ромодан. II, 15].
∞, .... ..... Сыновья: Андрей, Иван, Пётр, Фёдор, Василий.
КН. МИХАИЛ РОМАНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ († IV/V.1506, под Казанью)
Сын Романа Андреевича Всеволодовича.44
1487, литовскій подданный.[сио, 4—б]. Еще одной мезецкой третью владели сыновья покойного князя Романа Андреевича — Семен и Михаил Романовичи, имевшие мужское потомство [СИРИО. Т. 35. C. 4, 7, 121 и др.; Родословная книга, 1851. C. 72]. Их сестра Елена Романовна 27 мая 1470 г. была выдана замуж за углицкого князя Андрея Васильевича Большого (брата Ивана III) [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 169]. И хотя зимой 1483 г. она умерла [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 317], но успела оставить после себя потомство. В верховьях Оки князь Андрей Большой владел Медынью [ДДГ. №72. C. 258], что создавало дополнительные возможности для его порубежных контактов и для оказания влияния на политические взгляды его мезецких шуринов.Во второй половине 1492 г. на сторону Москвы перешли князья Семен Федорович Воротынский и Михаил Романович Мезецкий. Заодно они захватили города Серпейск и Мезецк, а также ряд других городков и волостей Верхнего Поочья [ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 334]. Кроме того, князь Михаил Мезецкий «изымавъ, приведе съ собою дву братовъ, князя Семена (Романовича. — Р. Б.) да князя Петра (Федоровича. — Р. Б.). И князь велики (Иван III. — Р. Б.) ихъ послалъ въ заточение въ Ярославль, а князя Михаила пожаловалъ его же отчиною и повелелъ ему себе служити» [ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. C. 227; РК-1598. C. 22; РК-1605. Т. 1. C. 32–33]20. Позже, 6 февраля 1493 г., московский посол Дмитрий Загрязский сообщил об этих «отъездах» новому литовскому господарю Александру Казимировичу [СИРИО. Т. 35. C. 81; ОДБ МАМЮ. Т. 21. C. 3. №18].
Литовский господарь Александр отреагировал на новые потери в верховьях Оки более решительно, чем его покойный отец Казимир. Он «прислал из Смоленска своего пана Юрья Глебовича да князя Семена Ивановича Можайского (Стародубского. — Р. Б.), да князей друтцких. Да те городки Мезетцк да Серпееск и с волостми поимали да позасели» [РК-1598. C. 22–23; РК-1605. Т. 1. C. 33–34; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 334]. Несколько месяцев спустя Иван III вспоминал, что литовские воеводы пришли «со многими людми войною, техъ нашихъ слугъ звоевали, городы ихъ поимали и иззасели, а волости выжгли и выграбили, и людей многих до смерти побили, а иныхъ въ полонъ повели, а слуги нашего княжу Михайлову (Романовича Мезецкого. — Р. Б.) казну взяли, а онъ самъ одною головою из города ушолъ» [СИРИО. Т. 35. C. 107]. Тогда Иван III «послалъ техъ городовъ доставати своего сестрича князя Федора Васильевича Резанского». Войско выступило из Москвы 29 января 1493 г., по пути к нему присоединились несколько князей новосильского дома и князь Михаил Романович Мезецкий [РК-1598. C. 22–23; РК-1605. Т. 1. C. 34]. Услышав о приближении московских войск, пан Юрий Глебович и князь Семен Можайский оставили в городах воевод в осаде, а сами отступили к Смоленску. В Мезецке горожане «не взмогша противитися, и градъ отвориша». Затем многие другие литовские городки Верхнего Поочья были взяты силой [СИРИО. Т. 35. C. 104; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 334–335; ПСРЛ. Т. 28. М.; Л., 1963. C. 158, 323; ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. C. 225]. В дальнейшем Александр Казимирович не смог найти сил для военного противостояния московской стороне. Осенью того же года речь зашла о возможности прекращения войны и заключении мирного договора. Литовская сторона желала, было, вернуть мезецких князей с их вотчинами на литовскую службу [LM. Kn. 5. 2012. P. 196; СИРИО. Т. 35. C. 118]. Однако в Москве в ходе переговоров литовским послам пришлось идти на уступки. Еще 30 января 1494 г. они соглашались на то, чтобы отступиться в московскую сторону от Гдырева, Устья и Жабыни, с которыми Всеволодичи «приехали» служить к Литве [СИРИО. Т. 35. C. 120]. Однако уже на следующий день (1 февраля) они согласились на иные условия: «которые князи служатъ великому князю, вашему государю (Ивану III. — Р. Б.), те бы свои долници ведали, а которые князи служатъ нашему государю (Александру. — Р. Б.), те бы свои долници ведали. А что князь Семенъ (Романович. — Р. Б.) и князь Петръ (Федорович. — Р. Б.) Мезоцкие въ нятстве у государя вашего (Ивна III. — Р. Б.) сидятъ, техъ бы отпустити на ихъ отчины въ Мезческъ, и они, кому похотятъ, тому служат, а другому ихъ не приимати и съ вотчиною» [СИРИО. Т. 35. C. 121]. В итоге в договоре о мире от 5 февраля 1494 г. записали: «А мезецкии кн(я)зи, княз Михаило Рманович, и кн(я)зя Ивановы дети Федоровича Одыревского, княз Василеи и княз Федор, служат мне, великому князю Ивану, и моимъ детеми со всими (следует читать «со своими». — Р. Б.) отчынами, што къ их долницамъ в городе в Мезецку и въ волостех, а тобе, великому кн(я)зю Александру, их не обидити и не прыимати зъ их отчынами. А што служат тобе, великому кн(я)зю Александру, мезецкии кн(я)зи, княз Федоръ Сухии да кн(я)з Василеи, а князя Федоровы дети Анъдреевича, и тыи кн(я)зи в Мезецку в городе и в волостех ведают свои отчыны, делницы свои, а мне, великому кн(я)зю Ивану, и моим детемъ их не обидити и не прыимати ихъ зъ их отчынами. А што в мене в нятстве мезецкии князи, кн(я)зь Семенъ Романовичъ и княз Петръ Федоровичъ, и мне тыхъ князеи отпустити в Мезчоскъ на их очину, и они, кому похотять, тому служать зъ своими отчынами што их долницы в городе в Мезецку и въ волостехъ» [LM. Kn. 5. 2012. P. 251; СИРИО. Т. 35. C. 124–133; ДДГ. №83. C. 329–332]. По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович [СИРИО. Т. 35. C. 156, 157], а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу [СИРИО. Т. 35. C. 141]. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья [СИРИО. Т. 35. C. 152]. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. 29 августа 1494 г. в Москве литовский посол Лютавор Хребтович передал грамоту Александра Казимировича, составленную 11 июня того же года. В частности, в ней говорилось: «прислалъ до насъ слуга нашъ князь Петръ Мезецкий, жалуючи, чтожъ онъ купилъ былъ въ дяди своего, князя Ивана Андреевичя въ мезецкого, третью чясть въ городе въ Мезоцку, и въ месте (в городе. — Р. Б.) и въ селахъ, ещо за отца нашего, короля его милости». Однако московский слуга князь Михаил Романович Мезецкий отнял все то, что он купил. Литовский господарь просил «оправити», то есть разрешить этот спор в судебном порядке и отступиться от названной мезецкой трети в пользу князя Петра Федоровича [СИРИО. Т. 35. C. 147–148]. Иван III подтвердил, что эту дольницу держит за собой его слуга князь Михаил Мезецкий, но вдруг заявил, что «Месческъ былъ весь нашъ. А которые князи мезоцкие служатъ великому князю Александру, ино имъ написано въ докончание ведати вотчины свои долници. А о князе Петре написано жъ, что ему ведати своя отчина, долница своя. А что не писано въ докончание, ино то все наше. А тою третью княжою Ивановою пожаловали есмя слугу своего князя Михайла Романовичя Мезецкого» [СИРИО. Т. 35. C. 152]. Накануне заключения мирного договора Мезецк был захвачен князем Михаилом Романовичем и действительно был московским. Однако в договоре было написано, что и литовские слуги «в Мезецку в городе и в волостех ведают свои отчыны, делницы свои». Иван III игнорировал не только законную «куплю» князя Петра Федоровича, но и положение московско-литовского договора. Тот же ответ был дан в марте 1497 г. и в марте 1498 г. [СИРИО. Т. 35. C. 230, 249]. Иск литовской стороны так и не был удовлетворен.
Из-за спорных территорий между литовскими слугами князьями Петром и Федором Федоровичами, с одной стороны — и московскими слугами князем Михаилом Романовичем и его огдыревским родичами, с другой стороны, постоянно стали происходить конфликты. Так, еще до августа 1494 г. князь Федор Сухой поймал слугу своих огдыревских племянников по имени Лобана и отнял у них 25 душ челяди вотчинной (подневольных крестьян). Московские дипломаты просили их вернуть [СИРИО. Т. 35. C. 154]. Весной 1495 г. уже князья Петр и Федор жаловались на своих родичей — московских слуг. Те отвечали, что перед ними невинны, и в свою очередь сами жаловались на них. Дипломатия заставляла Ивана III соглашаться с тем, что достигнутые договоренности надо выполнять. Выражая свою приверженность к соблюдению мира, московский государь заверял, что он своим людям и слугамукраинным «лиха не велитъ чинити», а приказывает придерживаться докончания и во всех обидных порубежных делах вместе с литовскими судьями давать управу «на обе стороны» [СИРИО. Т. 35. C. 195].
В результате войны 1500–1503 гг вскоре Мезецк полностью перешел во владения Ивана III. Московский государь выменял его у князя Михаила Мезецкого на волость Олексин в Стародубе ряполовском [ДДГ. №89. C. 355]. Около марта — апреля 1504 г. Иван III составил духовную грамоту, которой завещал своему сыну князю Дмитрию «город Месческъ с волостми, и с погосты, и з селы, и со всеми пошлинами, со всемъ, что к нему потягло, как был за мезетцкими князми», а кроме того «город Опаков со всемъ, что к нему потягло, да волости Залидов, Недоходово, Лычино, Бышковичи по Угру». Вместе с тем, Барятин, Орен, Хозцы и Алешня — отошли к Козельску [ДДГ. №89. C. 360]. Исконные вотчины огдыревских князей Гдырев, Устье и Жабынь, а также волости огдыревской округи Рука, Лабодин и Бакино — тоже не были подчинены князю Дмитрию Ивановичу. В этой связи, сформировавшийся в дальнейшем Мещёвский уезд стал сильно отличаться от той территории, которой ранее владели мезецкие князья. В московсколитовском договоре 1508 г. мезецкие князья уже не упоминались, а «городъ Месческъ с волостми» был отнесен к владениям братьев Василия III [LM. Kn. 8. №80. P. 126–127].
Князья Мезецкие обосновались в Стародубе Ряполовском лишь на рубеже XV-XVI вв. после того как князь Михаил Романович Мезецкий по обмену с великим князем Иваном III получил в вотчину территорию бывшего Алексинского стана (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 355; Давыдов М.И. Две кабалы князя Ю. И. Мезецкого из архива Московского Богоявленского монастыря // Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 2003. С. 264).
1494, участвовалъ въ походѣ для отнятія Мезецка и другихъ горо-
довъ, отъ захватившей ихъ Литвы, какъ воевода: «а
Воротынскимъ кияземъ, и Одоевскимъ, и Белевскимъ
и князю Михаил у Мезецком у велѣлъ князь ве-
дший быти подлѣ передовой полкъ великаго князя, на
правой сторонѣ или на лѣвой, гдѣ похотятъ.» (Сборник Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 130).
Князь Михаил Мезецкий был воеводой в походе на Казань весной 1506 г. (Гневашев Д.Е. Вологодский служилый «город» в XV – начале XVI века // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и Новое время. Сб. статей памяти Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 680). Убит в бою под Казанью весной 1506 г. (Гневашев Д.Е. Вологодский служилый «город» в XV – начале XVI века // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и Новое время. Сб. статей памяти Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 680; Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 175).
Держал в вотчинном владении часть Мезецка в 1492–1503 гг. (Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 135). К 1503/1504 г. великий князь Иван Васильевич променял ему Алексин в Стародубе Ряполовском на его жеребей в Мезецке (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 355). До 1522/1523 г. князь М. Р. Мезецкий разделил между сыновьями князьями Иваном Шапцой, Иваном Меньшим, Петром и Семеном вотчину село Глумово с деревнями в Суздальском уезде (Акты Русского государства 1505–1526 гг. М., 1975. № 215). В 1539 г. наследники Михаила Мезецкого, до этого совместно управлявшие отцовской вотчиной, поделили свои владения.
∞, Васса .....
Дети: Андрей (убит в 1506), Семен, Иван Большой Шапца, Иван Меньшой, Василий, Петр Гнуса.
КНЖ. ЕЛЕНА РОМАНОВНА МЕЗЕЦКАЯ (?-1483)
Дочь Романа Андреевича Всеволодовича. Имя этой удельной княгини в событиях русской истории второй половины XV столетия упоминается только дважды – когда Елена Романовна вышла замуж и когда он скончалась. Первое сообщение о Елене Мезецкой связано с 1469 г. (ил. 116), тогда он стала женой удельного углицкого князя Андрея Васильевича Большого: «Тоя же весны месяц май в 27 день в неделю слепаго женился князь Андрей Васильевич Углечскы на Москве, понял княжну Олену княже Романову дщерь Мезицкого, венчал их в Пречистой Филипп митрополит».45 Следует отметить разночтения в имени невесты, встречающиеся в разных летописных сводах. Если в основном своде Ермолинской летописи она упомянута как Елена,46 то в Кирилло-Белозерском списке этого свода – как Ульяна.47 В Симеоновской летописи удельная княгиня названа и Еленой, и Ульяной.48

В семье Елены Мезецкой и Андрея Большого родились дочь и два сына – Иван и Дмитрий. Время появления детей на свет приходится на период между 1470 и 1483 гг. Не вызывает сомнений, что значительный период семья проводила не только в столице своего удела – Угличе, но и в Москве, в Кремле, где у Андрея Большого был собственный двор, который упоминается в летописях в описании одного из пожаров 1477 г.49 Дворы двух братьев великого князя Ивана III – Андрея Большого и Андрея Меньшого – размещались рядом и об пострадали от пожара. Отношения между Иваном III и его братьями были сложными и периоды согласия не раз сменялись откровенной враждой. Такие «розмирия» хронисты фиксируют после 1472 и около 1480 г., перед знаменитым «стоянием на Угре». Тогда удельные князья Андрей и Борис первоначально отказались прийти на помощь великому князю Ивану III и даже отправили во Ржев, поближе к литовской границе, своих жен и детей.50 Но затем все же оказали военную поддержку брату и были «пожалованы» за активные действия по преследованию татарского войска.51 Сепаратистские устремления удельных князей, сопротивлявшихся объединительной политике великого московского князя, определяли и судьбы их близких, заставляя жен срываться с насиженных мест вместе с детьми (ил. 117).
† 1483, апр. 2, и погребена въ оградѣ Вознесенскаго монастыря въ Москвѣ.52 Останки ее после 1929 г. не сохранились. Мы не знаем причину ранней смерти удельной княгини Елены, прожившей не более двадцати пяти – двадцати шести лет и скончавшейся в 1483 г.: «Тое же весны апреля в 2 преставися княгини, жена князя Андрея Васильевича».53 Московский летописный свод даже не называет жену Андрея Большого по имени. В Ермолинском своде указано место ее упокоения: «...Елена и положена на Москве у Вознесениа в городе».54 Во всех источниках указана одна и та же дата смерти – 2 апреля 1483 г. (ил. 118).

Остается сказать несколько слов о судьбе мужа и сыновей удельной княгини Елены. Князь Андрей Большой в 1492 г. был арестован великим князем Иваном III и посажен в заточение на Казенном дворе в Кремле, гдѣ пробылъ 2 года и 47 дней до конца жизни и умер 6 ноября 1494 г. Погребен въ ц. Михаила Архангела у сѣверныхъ дверей.55 Его обвинили в измене, переписке с литовским королем Казимиром и ханом Большой Орды Ахматом.56

Сыновья Андрея и Елены Иван и Дмитрий, несмотря на юный возраст, также были заключены под стражу – сначала в Переславле,57 затем в Вологде, в Прилуцком монастыре. Их судьба была трагичной, они провели в заключении почти полвека, один из них скончался в тюрьме, другой закончил свои дни монахом. По некоторым данным, дочь Андрея Большого была замужем за князем Андреем Дмитриевичем Курбским58 из рода князей ярославских. Однако в исторической литературе высказывалось мнение о том, что на дочери Андрея Большого Углицкого был женат другой князь из этого рода, Иван Семенович Курбский.59
∞, 27.V.1469, кн. Андрей Васильевич, пр. Горяй (1446–1493), кн. Углицкий.
XVII генерація от Рюрика.
КН. ИВАН ФЕДОРОВИЧ СУХОВ МЕЗЕЦКИЙ (1523, † 1563/1573)
Сын Федора Сухого Федоровича Андреевича60.
В 1527 г. великий князь Василий Иванович велел быть ему с Воротынским в Одоеве. В 1536 г. во время похода казанского царя Сафа-Гирея на Русь, великий князь велел идти полкам из Мурома в Нижний Новгород, в сторожевом полку был князь Иван княж Федор сын Мезецкого 61. в
В 1540 г. он вместе с муромскими детьми боярскими, посадскими людьми отражал набег на Муром царя Сафа-Гирея, потом встречал прибывшего в город царя.62 В 1544 г. в Муроме состоялся сбор воевод для похода в казанские места, среди которых был князь Иван княж Федоров сын Сухово Мезецкой.63 В феврале 1547 г. в войске из Нижнего Новгорода на казанские места второй воевода полка левой руки.64 В 1548 г. по цареву указу собирались войска: в сторожевом полку под Муромом был князь Иван княж Федоров сын Сухово-Мезецкого. 1550, съ 9 мая, воев. въ Гороховцѣ. [d. 141]. В октябре 1552 г. после взятия Казани второй воевода сторожевого полка в судовой рати из Казани к Нижнему Новгороду [Разрядная книга 1475–1598 гг. – М., 1966. – С. 70, 89, 98, 107, 112.] 1553, годовым воев. в Шацке. [d, 159]
В Дворовой тетради 50‑х гг. XVI в., в которой писаны бояре, дьяки, князья и дети боярские дворовые московской земли и приказные люди в Муроме, в первой строке князь Иван княж Федор Мезецков сын Мезецкого числится уже отставленным от службы. Здесь записаны его дети Борис и Сенька 65. Князья имели вотчинные землевладения в Дубровском стане Муромского уезда [Данная кн. Бориса Ивановича Мезецкого арх. Борисоглебского м–ря Самоилу на д. Гусли с пуст. в Дубровском ст. Муромского у. // РГАДА. – Ф. 281. – № 27/7759.].
Князь И. Ф. Мезецкий 10 января 1563 г. дал Троице-Сергиеву монастырю 50 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 51). Упоминается как заимодавец в духовной грамоте князя Семена Михайловича Мезецкого от 1 сентября 1557 г. – 9 марта 1558 г. (Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 97).
КН. ПЁТР ФЕДОРОВИЧ СУХОВ МЕЗЕЦКИЙ
Сын Федора Сухого Федоровича Андреевича66. Известен только по родословным.
КН. СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ (1521-до)
Ж. ВАСИЛИСА 1521
КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КУКУБЯКИН МЕЗЕЦКИЙ, ПР. ВЛАС (1534,1557)
Сын Василия Кукубяки Федоровича Андреевича.67
В декабре 1541 г. в войске во Владимире находился в полку правой руки с царевичем Шигалеем (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 103). Осенью 1546 г. Иван Власов Мезецкий назван стряпчим (Назаров В.Д. О структуре Государева двора в середине XVI в. // Общество и государство феодальной России. Сб. статей, посвященный 70-летию академика Л. В. Черепнина. М., 1975. С. 52). В апреле 1552 г. наместник в Звенигороде (Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства. СПб. 1838. С. 386; Архив П. М. Строева. Т. I // Русская историческая библиотека. Т. 32. Пг., 1915. С. 257, 368). В Дворовой тетради из Можайска с пометой «почернен» и из Москвы с пометой «постригся» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 125, 184).
Послух в данной жены Ю. И. Шемякина Пронского княгини Евдокии (Овдотьи), в 1559/1560 г. давшей в Троице-Сергиев монастырь по муже, по себе и родителям после своего живота свою вотчину село Алексино с деревнями в Стародубе Ряполовском во Владимирском уезде (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1213. Л. 1459; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 5. М., 2002. С. 34).
КН. МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КОКУБЯКИН (?-1552)
Сын Василия Кукубяки Федоровича Андреевича.68 † 1552, убит при взятіи Казани.[ЛР. І, 374; ЮТ, 60].
КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ОГДЫРЕВСКИЙ (1494)
Сын Ивана Федоровича Андреевича и Елены.69
В речах московского посла, составленных к 4 января 1493 г., не упоминалось об огдыревских князьях. Князя Ивана Федоровича, видимо, уже не было в живых, но до конца 1493 г. на московскую сторону перешла его жена Алена и дети Василий и Федор Ивановичи [СИРИО. Т. 35. C. 127, 130–131]. По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович [СИРИО. Т. 35. C. 156, 157], а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу [СИРИО. Т. 35. C. 141]. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья [СИРИО. Т. 35. C. 152]. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. В результате войны 1500–1503 гг. уже не только огдыревская, но и вся мезецкая округа отошла к московским слугам. Для Московского государства открылась старая дорога, проходившая по маршруту Калуга–Воротынск–Серенск–Брынь–Брянск. Осенью 1502 г. по ней провожали крымских послов. В этой связи, сохранились сведения о том, что к тому времени в Брыни были дольницы князей Семена и Михаила Романовичей Мезецких, а также их огдыревских племянников (Василия и Федора Ивановичей) [СИРИО. Т. 41. C. 441–442].
Вскоре Мезецк полностью перешел во владения Ивана III. Московский государь выменял его у князя Михаила Мезецкого на волость Олексин в Стародубе ряполовском [ДДГ. №89. C. 355]. О дальнейшем княжении в верховьях Оки огдыревских князей никаких сведений не сохранилось. В Румянцевской редакции родословных книг, восходящей к родословцу 1540‑х гг., из огдыревских князей показаны только Иван Федорович и его дети Василий и Федор [РИИР. Вып. 2. C. 114]. То же видим в Бархатной книге, восходящей к Государеву родословцу 1555 г. [Родословная книга, Ч. 1. 1787. C. 210]. В Патриаршей редакции конца XVI в. у князя Василия Ивановича показаны дети Иван и Михаил, а князь Федор Иванович назван бездетным [Родословная книга, 1851. C. 243; Кузьмин, 2012. C. 191; Родословная келейная книга… 1913. C. 54–55].
КН. ФЁДОР ИВАНОВИЧ (1494)
Служилый князь, воевода в 1494 г. (Сборник Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 130; Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 330).
В речах московского посла, составленных к 4 января 1493 г., не упоминалось об огдыревских князьях. Князя Ивана Федоровича, видимо, уже не было в живых, но до конца 1493 г. на московскую сторону перешла его жена Алена и дети Василий и Федор Ивановичи [СИРИО. Т. 35. C. 127, 130–131].По сравнению с князьями новосильского дома, которые почти все (кроме князя Федора Ивановича Одоевского) перешли на московскую службу, мезецкие князья разделились поровну. На литовской службе остался выпущенный из московского плена князь Петр Федорович [СИРИО. Т. 35. C. 156, 157], а также его родные братья Федор Сухой и Василий Федоровичи. Жена Федора была отпущена к мужу [СИРИО. Т. 35. C. 141]. С ними же оставалась вдова князя Ивана Андреевича — Софья [СИРИО. Т. 35. C. 152]. На московской службе оказался князь Михаил Романович, выпущенный из плена его брат Семен (родственники брата Ивана III — князя Андрея Большого) [СИРИО. Т. 35. C. 144, 156], а также жена и дети к тому времени уже покойного князя Ивана Федоровича Огдыревского. В результате войны 1500–1503 гг. уже не только огдыревская, но и вся мезецкая округа отошла к московским слугам. Для Московского государства открылась старая дорога, проходившая по маршруту Калуга–Воротынск–Серенск–Брынь–Брянск. Осенью 1502 г. по ней провожали крымских послов. В этой связи, сохранились сведения о том, что к тому времени в Брыни были дольницы князей Семена и Михаила Романовичей Мезецких, а также их огдыревских племянников (Василия и Федора Ивановичей) [СИРИО. Т. 41. C. 441–442]. Вскоре Мезецк полностью перешел во владения Ивана III. Московский государь выменял его у князя Михаила Мезецкого на волость Олексин в Стародубе ряполовском [ДДГ. №89. C. 355].
О дальнейшем княжении в верховьях Оки огдыревских князей никаких сведений не сохранилось. В Румянцевской редакции родословных книг, восходящей к родословцу 1540‑х гг., из огдыревских князей показаны только Иван Федорович и его дети Василий и Федор [РИИР. Вып. 2. C. 114]. То же видим в Бархатной книге, восходящей к Государеву родословцу 1555 г. [Родословная книга, Ч. 1. 1787. C. 210]. В Патриаршей редакции конца XVI в. у князя Василия Ивановича показаны дети Иван и Михаил, а князь Федор Иванович назван бездетным [Родословная книга, 1851. C. 243; Кузьмин, 2012. C. 191; Родословная келейная книга… 1913. C. 54–55].
КН. АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ (1513, † 1519, Мещера)
Старший сын боярина Семёна Романовича Андреевича, перешедшего на службу московскому князю Ивану III от литовского князя, воевода на службе у московского князя Василия III. Имел братьев Ивана, Петра, Фёдора и Василия. Потомства не имел. В июле 1513 г. во время второго похода на Смоленск был вторым воеводой в полку правой руки (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 133).
Убит татарами на Мещере в 1516 г.70
КН. ИВАН СЕМЕНОВИЧ СЕМЕЙКА МЕЗЕЦКИЙ (1515,1555)
полк.воев.(1515) дворов.сын-боярск. помещ.-Можайск‑у. 2С:Сем.Ром.Анд-ча
воевода в правление Василия III Ивановича и Ивана IV Грозного.Представитель княжеского рода Мезецких (Рюриковичи). Второй сын боярина князя Семёна Романовича Мезецкого. Братья — князья Андрей, Пётр, Фёдор и Василий Мезецкие. Тысячник 2‑й статьи из Можайска. В Дворовой тетради из Можайска (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 59, 183).
В марте 1513 года — второй воевода передового полка в Туле «береженья для» во время похода великого князя на Смоленск, затем был вызван к Смоленску. В мае 1514 года водил полк левой руки в Тулу, а в июне «с Тулы велел князь великий итти за собою к Смоленску воеводам: … Семейке княж Семенову сыну Романовича…». В 1515 году — второй воевода полка левой руки в русской рати под командованием князя В. С. Одоевского на р. Вашана, откуда был отправлен в Тулу 2‑м воеводой в полк правой руки. В 1516 году — 3‑й воевода полка левой руки у того же князя В. С. Одоевского на р. Вашане. После роспуска «больших» воевод переведен 2‑м воеводой в сторожевой полк. В 1517 году — второй воевода сторожевого полка в Мещере, на Толстике, откуда был отправлен на р. Вашану. В июле 1527 года князь И. С. Мезецкий был прислан 4‑м воеводой в Одоев под командование князю М. И. Воротынскому. В мае 1529 года был отправлен в войске князя М. И. Воротынского среди прочих воевод из Почепа в Серпухов. В мае 1530 года — 2‑й воевода передового полка в конной рати во время похода русской рати на Казань. В ноябре 1535 года князь И. С. Мезецкий был прислан 2‑м воеводой полка левой руки в Можайск для дальнейшего похода на Великое княжество Литовское. В июле 1537 года — 3‑й воевода передового полка в Коломне, в августе 1538 года — 2‑й воевода полка левой руки в Коломне. В июне 1543 года князь Иван Семёнович Мезецкий служил вторым воеводой передового полка «на Коломне». В апреле 1546 года — 2‑й воевода полка левой руки в Коломне. В начале 1547 года был отправлен в Вязьму и Дорогобуж для поиска невесты молодому царю Ивану Грозному. В июне-июле 1555 года князь И. С. Мезецкий упоминается среди голов «в стану и в сторожах» во время царского похода в Коломну и Тулу против крымского хана Девлет-Гирея.(Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 56, 58, 60, 71, 73, 74, 86, 91, 94, 95, 104, 107, 110, 151; Назаров В.Д. Свадебные дела XVI века // Вопросы истории. 1976. № 10. С. 117).
Послух в данной 1567/1568 г. И. Е. Цыплятева, передавшего после своего живота Кирилло-Белозерскому монастырю вотчину прародителей своих и отца село Раменье с деревнями (ОР РНБ. СПбДА. А I/16. Л. 521 об.-522 об.)
Оставил двух сыновей: князь Иван Иванович Мезецкий (ум. после 1606), князь Михаил Иванович Кушник Мезецкий (ум. после 1606)
~ Феодосия.Дм. кнж.Охлябинина.
КН. ПЕТР СЕМЕНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (* ...., 1512, 1513, † ....)
воевода на службе у московского князя Василия III. Князь из рода Мезецких. Сын боярина Семёна Романовича Мезецкого, перешедшего на службу московскому князю Ивану III от литовского князя. Имел братьев Андрея, Ивана, Фёдора и Василия. В мае 1512 года был послан на реку Угра в большой полк к воеводе Даниилу Щене «для посылок».71 В июне 1513 года во второмъ Смоленскомъ походѣ шелъ изъ Дорогобужа въ Смоленскъ вoев. сторож. п.72
Потомства не имел.
КН. ФЁДОР (ИН.ФЕОДОСИЙ) СЕМЕНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1516,† 1571)
воевода в правление великих князей Василия III Ивановича и Ивана IV Грозного, четвертый из пяти сыновей боярина князя Семёна Романовича Мезецкого. Братья — Андрей, Иван «Семейка», Пётр и Василий.
В Дворовой тетради из Можайска с пометой «умре» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 184). В 1515/1516 г. в войске из Белой к Витебску второй воевода сторожевого полка. В 1518/19 г. четвертый воевода в Мещере. В 1528/29 г. второй воевода на Сенкине броде. В мае 1530 г. в походе на Казань второй воевода сторожевого полка в конной рати. В 1531 г. воевода за городом в Рязани, затем первый воевода передового полка в Рязани. В 1535 г. воевода в Чернигове, при нападении на город литовцев «литовских людей побил из города и пушки поимал». В 1536/37 г. воевода в Мещере. В июне 1543 г., июле 1544 г. в Коломне был вторым воеводой в полку левой руки. В декабре 1546 г. отправлен в Ростов и Ярославль для смотра невест для великого князя. Летом 1547 г. в Коломне и Кашире второй воевода сторожевого полка. В декабре 1547 г. второй воевода в Смоленске. В 1553/54 г. воевода на годованье в Смоленске (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 59, 62, 73, 75–77, 93, 104, 108, 111, 115, 146; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 256; Назаров В.Д. Свадебные дела XVI века // Вопросы истории. 1976. № 10. С. 117). В апреле-мае 1552 г. встречал ногайских послов Баитерека с товарищами и сопровождал их из Темникова до Москвы. В июне провожал их из Москвы до Рязани (Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.) / Сост. Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов. Казань, 2006. С. 83, 85, 88). В 1552/1553 г., в 1555 г. двухтретный писец в Рязанском уезде (Акты служилых землевладельцев XV–начала XVII в. Т. 1. М., 1997. № 277; Сметанина С.И. Вотчинные архивы рязанских духовных корпораций XIII – начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 6. М., 2000. № 41, 42, 124–126).
После смерти жены княгини Ирины (умерла 6 сентября 1556 г.) князь Ф. С. Мезецкий дал по ней Троице-Сергиеву монастырю 50 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 51).
В иночестве Феодосий, в 1558–1567 г. соборный старец, умер в 1571 г. (Список погребенных в Троицкой Сергиевой лавре от основания оной до 1880 года. М., 1880. С. 33).
Ж. ИРИНА {АЙГУСТОВА?} 1556.09.06+
Потомства не оставил.
КН.ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1521,1555)
Сын 4‑й удельного князя Мезецкого и боярина Семёна Романовича Андреевича, перешедшего на службу московскому князю Ивану III от литовского князя, воевода на службе у московского князя Василия III и царя Ивана IV Грозного. Имел братьев Андрея, Ивана Семейку, Петра и Фёдора. Имел троих сыновей: Михаила, Андрея и Ивана.
Тысячник 2‑й статьи из Можайска. В Дворовой тетради из Можайска с пометой «умре» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 59, 183). Летом 1521 г. находился среди голов у воевод на Угре. В марте 1529 год был третьим воеводой на Сенкине броде через реку Оку. В июле 1531 года был в Рязани, за городом вторым воеводой передового полка. В 1532 был послан в Серпухов, в дополнение к другим воеводам, оборонявшим переправы через Оку. В мае 1533 года послан пятым воеводой в Белёв, где стоял в охранении на реке Бобрик. В 1534 году был вторым воеводой в Путивле. В 1535 году был в составе посольства в Крымское ханство. С 1540 года был воеводой полка левой руки под Коломной. В августе 1541 года при походе на Русь Сагиб-Гирея был послан с полком левой руки из Коломны к Белёву на берег Оки. В сентябре 1544 г. наместник в Стародубе. В июле 1547 г. в разряде царского похода в Коломну, затем в декабре 1547 г. в войске из Владимира к Нижнему Новгороду второй воевода в полку левой руки. В 1548 году опять как второй воевода ходил из Нижнего Новгорода на Казань с полком левой руки. В конце 1551 года астраханского хана Дервиш-Али и сопровождал его в Москву. В апреле 1552 послан из Мурома к Казани как второй воевода сторожевого полка впереди основного войска и участвовал в взятии Казани. В мае 1553 г. должен был из Нижнего Новгорода в Свияжский город возглавить сторожевой полк. В 1553 г. среди воевод в Свияжском городе. В 1555 г. в Коломне был вторым воеводой в полку левой руки (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 66, 73, 77, 81–83, 85, 101, 111, 113, 114, 134, 139, 140, 149; Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 261). В августе 1551 г. встречал ногайских послов в Москве, 19 октября 1551 г. встречал Дервиша царя из Ногаев на р. Пекше и провожал его до Москвы. В ноябре участвовал в переговорах с Дервишем. В марте 1552 г. Дервиш был пожалован Звенигородом и князь Василий Мезецкий и Андрей Хруль Наумов должны были сопровождать его в Звенигород (Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.) / Сост. Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов. Казань, 2006. С. 65, 77–78, 80, 82). В марте 1570 г. привез грамоту от царя приставам, принимавших в Москве польских послов (Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 630, 632).
КН. ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ († до 1522/23)
скончался до 1522/23 г., не оставив потомства. В относящихся к указанному году внутрисемейных сделках его имя ни разу не упоминается (АРГ. № 214–215. С. 215, 217).
КН. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ († IV/V.1506, под Казанью).
помещ. 2С:Мих.Ром.Анд-ча.
КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ШАПКА БОЛЬШОЙ (1523,† 1552/1560).
дворов.сын-боярск. помещ.-Кострома‑у. 1539 вотч.-Стародуб-Ряполово‑у. с.Алексин с.Васильевское с.Лучкино раздел с братьями и сестрой 3С:Мих.Ром.
Рында. Умер в середине 50‑х гг. XVI в.: в тексте Дворовой тетради напротив имени его отца стоит пометка «умре» (ТКДТ. С. 149).
Не позднее середины 20‑х гг. XVI в. младшие сыновья Михаила Романовича поделили территорию волости между собой, однако верховная власть утвердила итоги раздела лишь зимой 1538/39 г. 73 По нему Иван Шапка получил село Васильевское (совр. Шапкино), 74 к которому согласно писцового описания XVII столетия тянуло до 10 деревень и около 40 пустошей.
КН. ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ГНУСА (1522,–1560)
четвертый сын Михаила Романовича Мезецкого.
Не позднее середины 20‑х гг. XVI в. младшие сыновья Михаила Романовича поделили территорию волости между собой, однако верховная власть утвердила итоги раздела лишь зимой 1538/39 г. 75 Петру досталась половина села Алексино. О дальнейшей судьбе выморочной вотчины князя известно следующее. Семен, брат Петра, часть полученной им доли отдал в приданное зятьям — князьям Василию Ивановичу Коврову и Петру Борисовичу Корове Пожарскому, 76 еще около 10 поселений завещал племянникам — Юрию Шапкину и Авдотье Шемякиной-Пронской (урожденной Мезецкой — в духовной Семена она названа Софьей). 77 В описании вотчины князя Семена 1538 г. (там же. № 37) ни одно из поселений, завещанных им племянникам, не упоминается; следовательно, первоначально они также входили в состав выморочной латифундии его брата Петра. а владельческий комплекс деревни Дубакино (Дубакинская) продал княгине Авдотье Горбатой. 78 Та, в свою очередь, дала оттуда Николо-Шартомскому монастырю озеро Сорокино , а прочие земли (в об-щей сложности 15 деревень с 5 селищами) не позднее лета 1558 г. продала в казну — в указанном году Иван IV променял деревню Дубакино Московскому Богоявленскому монастырю. 79
Бездетный.
КН. СЕМЕН (ИН. СЕРАПИОН) МИХАЙЛОВИЧ (1523, † 10.III.1558/16.II.1560),
воевода, пятый из шестерых сыновей князя Михаила Романовича Мезецкого (ум. 1506). Братья — князья Василий, Андрей, Иван Шапца, Пётр Гнуса и Иван Меньшой. В ноябре 1543 года князь С. М. Мезецкий был «послан по казанским вестем» вторым воеводой сторожевого полка во Владимир. В июне 1544 года — 2‑й воевода передового полка во Владимире. (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 104–105). В 1554 году на свадьбе царя Симеона Бекбулатовича князь С. М. Мезецкий упоминается среди поезжан. В Дворовой тетради после Стародубских князей среди помещиков Стародуба с пометой «умре» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 123).
Умер до 16 февраля 1560 г. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 51).
Не позднее середины 20‑х гг. XVI в. младшие сыновья Михаила Романовича поделили территорию волости между собой, однако верховная власть утвердила итоги раздела лишь зимой 1538/39 г. 80 Пятый сын Михаила Мезецкого Семен унаследовал село (сельцо) Лучкино. В 1538/39 г. к нему тянули 38 ½ деревень и починков (в общей сложности 113 жилых дворов крестьян и слуг князя), вотчинный Михайло-Архангельский монастырь с 15 кельями нищих, а также 12 пустошей. Умирая, в 1557/58 г., князь передал 3 деревни в Спасо-Евфимьев монастырь, 81 6 деревень в Троице-Сергиев монастырь 82 (в 1560 г. их выкупил зять Семена Василий Ковров 83, известна дальнейшая судьба лишь одного из шести поселений, входивших в состав этого вотчинного комплекса: деревня Зыбкина в XVII в. показана дворцовой 84), а собственно село Лучкино с 32 ½ деревнями и 3 пустошами оставил дочерям Марии и Федосье. 85
В 1522/1523 г. князья Иван Шапца, Петр и Семен Михайловы дети Мезецкие продали их младшему брату Ивану Меньшому Михайлову сыну Мезецкому три жеребья села Глумово с деревнями, починками и пустошами в Суздальском уезде. 8 сентября 1523 г. князь Иван Меньшой Михайлович Мезецкий заложил благовещенскому протопопу Василию и его сыну Ивану село Глумово с деревнями в Суздальском уезде за 300 руб. (Перечень актов Архива Троице-Сергиева монастыря. 1505–1537 гг. / Сост. С.М. Каштанов, С.Ю. Королева, Л.В. Столярова. М., 2007. № 216, 229). В 1538/1539 г. по приказу великого князя Ивана Васильевича был произведен раздел вотчины князей Ивана, Петра, Семена Михайловых сел Алексин, Васильевское, Лучкино с деревнями и починками детей Мезецкого и княжны Овдотьи, дочери князя Ивана Меньшого Иванова сына Мезецкого. Князю Семену досталось село Лучкино с 38,5 деревнями, починками и пустошами в Стародубе Ряполовском. Овдотье досталось полсела Алексино с 38 деревнями и починками. Во владенье было не менее 5000 десятин, не считая 16 озер и заливных лугов (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 865–872; Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 823. Л. 706–712; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 5. М., 2002. С. 67–68; Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 37). В 1557/1558 г. жена боярина князя Юрия Ивановича Шемякина Пронского княгиня Овдотья, дочь князя Ивана Меньшого Михайловича Меньшого Мезецкого, размежевала земли со своим дядей Семеном Михайловичем Мезецким и братом князем Юрием Ивановичем Шапкиным в вотчинных угодьях князя Петра Михайловича трети на р. Клязьме в Стародубе Ряполовском (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. № 1178. Д. 8. Л. 1381).
В период между 1 сентября 1557 г. и 8 марта 1558 г. князь С. М. Мезецкий составил духовную грамоту. Митрополиту Макарию 10 марта 1558 , святителю была «явлена» духовная грамота «умершего князя Семена Михайловича Мезецкого», по которой упоминал деревни в Заборовье Старое, Старое Корачаровское, Васки Карачарова, Хмельники, Тимошкино, Бокарево, Зыбкино, которые дал Троице-Сергиеву монастырю. Предусмотрена возможность их выкупа за 50 руб. со стороны дочерей князя Семена Марии и Феодосии. Спасо-Евфимьеву монастырю дал отчины своей деревни Снегиревское, Харинское, Косовка в Мальшине углу, Архангельскому собору деревню Таракановское. Дочерям княгиня Марье и Феодосии дал в Стародубе Ряполовском село Лучкино с 26,5 деревнями и 4 пустошами, а также в Заборье деревни Останино, Коромыслово, Душилово, Большое Дворище, Сеча по половинам. Племянницу Софью, дочь князя Ивана Михайловича Мезецкого, благословил деревнями Лукояново, Садовское, починками Новоженино, Киташевским. Племянника князя Юрия Ивановича Мезецкого благословил деревнями Маринкино, Борцово, Мосеево, Гнездовское, пустошью Рошковское. В духовной упоминается свояченица князя Семена Ульяна, жена князя Михаила Юрьевича Ромодановского и теща Овдотья, жена Федора Писарева. Князь Семен приказал свой двор в Москве на Никитской улице продать и передать деньги Новодевичьему монастырю по его душе и по княгине Анне. Среди всего имущества князь называет свои святыни: «Образ Егорей Великий, резан на камени на яшмере, резь греческая и цка золота», затем «образ резан на кости на мамонтове Дванадесят праздников, обложен басмы серебряны позолочены, да образ Пречистые, серебром обложен позолочен, пелена шита золотом да серебром, а крест золотой с мощьми и с каменьем, да две иконы, серебром обложен», а также «Крест золот с мощьми да икону складную синодой Дванадесят праздников, обложена серебром, да икону Дванадесят праздников, резан на кости на мамонтове, серебром обложена, да образ Чюдотворца Николы, серебром обложен под хрусталем». Все «послухи» подтвердили, что грамота была написана при них, после чего святитель скрепил ее своей подписью и печатью. Подписал грамоту «митрополичь дияк Никита Парфениев».(Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 97).
В 1564/1565 г. княгиня Авдотья, жена князя Ю. И. Шемякина Пронского, племянница князя С. М. Мезецкого, составила духовную грамоту. Своим сестрам, дочерям князя Семена Михайловича Мезецкого, Марье и Федосье она дала 20 руб. вотчину деда князя Михаила Романовича и отца князя Ивана Михайловича Мезецких полсела Олексино с деревнями в Стародубе Ряполовском во Владимирском уезде, да вотчину дяди князя Петра Михайловича Мезецкого другую половину села Олексино с деревнями она дала Троице-Сергиеву монастырю. Кроме этого деревни, доставшиеся ей от дяди князя П. М. Мезецкого Батютино, Харинская, Голощапово, Федорово, Бабишкино, Шурыгино, Волчья, Голышковка, Лихорево, Бахулина, она благословила своего брата князя Юрия Михайловича Мезецкого. Сестрам княгиням Марье и Федосье она дала дяди деревни Круглое, Максимово, Звягино, Голево. Еще одну вотчину, данную ей дядей и отцом, село Глумово с деревнями в Суздальском уезде Овдотья завещала Богоявленскому монастырю. Тянущие к селу Глумово деревни Банево, Сурожко, Кругло Курожино, Суромеж, Терехово, Милютино, Переховицы, Чюрилово, Ломки, Кондратищово, Кунеи остров, Кречаи остров, Нежерелех, Полянки, Палкино дала своему дяде Ионе Васильеву сыну Протопопову до его живота, а после Богоявленскому монастырю (Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов. XV–начало XVII в. М., 1998. № 82).
Князь С. М. Мезецкий 12 июля 1555 г. дал Троице-Сергиеву монастырю по своей жене княгине Анне 50 руб. 1 марта 1556 г. он дал по жене коня. 16 февраля 1560 г. по князе Семене Мезецком взяли 50 руб. у князя Василия Коврова за вкладную вотчину. После его смерти 16 февраля 1560 г. взято на его вотчине у князя Василия Коврова 50 рублев (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 51). 21 марта 1558 г. князь И. И. Барятинский, душеприказчик князя С. М. Мезецкого, дал по его духовной грамоте Спасо-Евфимьеву монастырю вотчинные деревни Снегиревское, Харинское и Косовка в Мальшине углу Стародубского уезда. Некоторые земли села Алексина в Стародубском уезде к 1566/1567 г. достались по обмену князю Владимиру Андреевичу Старицкому (Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 106, 147, 148; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 5. М., 2002. С. 22–23). В 1571/1572 г. княгиня Мария Семеновна, жена князя В. И. Коврова (и дочь князя Семена Михайловича Мезецкого), дала Спасо-Евфимьеву монастырю по своем свекре князе Иване, по муже, по детях князьях Юрии и Александре Ковровым вотчину мужа и детей в Стародубе Ряполовском в Коврове сельцо Андреевское с деревнями Суворовское Салтаново, Угримово Фролово, пустошью Савинское. В 1571/1572 г. княгиня Мария Коврова и княгиня Федосья, жена князя Петра Борисовича Пожарского, дали Спасо-Евфимьеву монастырю своего отца князя С. М. Мезецкого благословение в память по отце и по матери Пелагее, по муже Марии князе В. И. Коврове, по муже Федосьи князе П. Б. Пожарском, и по детях князьях Юрии, Александре, Иване, княжне Варваре, дяде князе П. М. Мезецком свою вотчину в Стародубе Ряполовском сельцо Лучкино с деревнями 12 деревнями, 1 починком и 2 селищами (Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. М., 1998. № 106, 165, 167; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 5. М., 2002. С. 26–27). В 1567/1568 г. князь И. Б. Ромодановский дал Богоявленскому монастырю свою вотчину куплю сельцо деревню Щетининское с деревнями Нестерово, Княгининская (Княжье), починок Коромыслов и др. и мельницу на р. Шижехте в Стародубе Ряполовском. Шесть деревень этой вотчины князь Иван Борисович купил в 1553/1554 г. у князя Василия Ивановича Коврова, которому они достались в качестве приданого от тестя, князя Семена Михайловича Мезецкого. Остальные деревни Ромодановский, возможно, купил у князя Ю. И. Шапкина Мезецкого (Давыдов М.И. Две кабалы князя Ю. И. Мезецкого из архива Московского Богоявленского монастыря // Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 2003. С. 261). В 1557/1558 г. сделал вклад в Троице-Сергиев монастырь по приказу и по духовной грамоте своего дяди князя старца Серапиона (в миру Семена) Мезецкого его вотчину в Заборовской волости Бежецкого уезда деревни Старая Карачарово, Васки Карачарова, Хмелники, Тимошкино, Бокарево, Зыбкино. Указана возможность выкупа вотчины дочерями князя Семена Марией и Феодосьей за 50 руб. Князь С. М. Мезецкий сделал вклад в Троице-Сергиев монастырь 12 июля 1555 г. по жене Анне 50 руб. и вскоре после этого постригся под именем Серапиона. 16 февраля 1560 г. после смерти Серапиона было взято 50 руб. у князя Василия Иванова сына Коврова Стародубского, который был женат на княгине Семеновне Мезецкой и вотчина перешла к нему (РГАДА. Ф. 281. № 1245/141; Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1176. Л. 1376; Ф. 115. Д. 5. Л. 157; Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 1. М., 1899. С. 7).
Ж.: ПЕЛАГЕЯ
КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ МЕНЬШОЙ (1519,–1539+до)
1539 вотч.-Стародуб-Ряполово‑у. с.Алексин с.Васильевское с.Лучкино раздел с братьями и сестрой ~Евфимия.Вас. 1519 Д:Вас. ПРОТОПОВ бездетн. 6С:Мих.Ром.
Не позднее середины 20‑х гг. XVI в. младшие сыновья Михаила Романовича поделили территорию волости между собой. В частности, известно, что младший сын М.Р. Мезецкого — Иван Меньшой — уже к 1526 г. являлся владельцем
половины села Алексино (АРГ. № 279. С. 281–282). Примерно в это же время он заложил се в 100 рублях С. В.Черемисинову, однако тесть князя — протопоп кремлевского Благовещенского собора Василий — выкупил эту вотчину и вернул се зятю (ОР РГБ. Ф. 303ЛІ. Кн. 546. Л. 9‑об., 36-об.). Однако верховная власть утвердила итоги раздела лишь зимой 1538/39 г. 86
Известен целый ряд актов, имеющих непосредственное [259] отношение к Богоявленскому монастырю, хотя и происходящих из архивов других духовных корпораций. Семь из них освещают историю села Глумова и сельца (деревни) Банева в Суздальском уезде, отобранных Иваном Грозным в середине 1560‑х гг. у богоявленского старца Ионы Протопопова (в качестве компенсации за конфискованные владения последний получил село Алексино в Стародубе Ряполовском, которое впоследствии было завещано им Богоявленскому монастырю) 6. Это, во-первых, купчая князя Ивана Меньшого Михайлова сына Мезецкого у его старших братьев и очищальная запись последних на три жеребья села Глумова (1522/23 г.) 7; во-вторых, закладная кабала на то же село князя И. М. Мезецкого тестю – протопопу кремлевского Благовещенского собора Василию Кузьмичу (1523 г.) 8; в‑третьих, отдельная грамота сыну Василия Кузьмича Ионе Протопопову, уже являвшемуся к тому времени богоявленским иноком, на сельцо Банево (1562/63 г.) 9; и наконец, в‑четвертых, духовные Василия Кузьмича (1531/32 г.), его жены Марфы (1560/61 г.) и их внучки – княгини Авдотьи Ивановны Шемякиной Пронской (1564/65 г.), в которых оговаривались условия перехода села Глумова и сельца Банева в собственность Богоявленского монастыря 10. Еще в двух актах Иона Протопопов выступает уже как владелец села Алексина в Стародубе Ряполовском – в разъезжей на земли сел Алексина, Лучкина и Васильевского (1566/67 г.) и в жалованной тарханно-оброчной и несудимой грамоте митрополита Кирилла причту церквей Рождества Богородицы в селе Алексине и Архангела Михаила в селе Лучкине (1569 г.; см. также подтверждение митрополита Антония 1573 г.) 11. Другая богоявленская вотчина в Стародубе – село Дубакино фигурирует в разъезжей землям князя Ивана Борисовича Ромодановского с землями князя Юрия Ивановича Шапкина Мезецкого и Богоявленского монастыря (1567 г.) 12. Итого 10 актов.
6. АРГ. АММС. М., 1998. № 92. С. 219–220.
7. АРГ. М.; 1975. № 214, 215.
8. Там же. № 219.
9. РГБ. Ф. 303/II. Кн. 546. Суздаль. Л. 15 об.- 26.
10. РГБ. Ф. 303/I. № 281; там же. Ф. 303/II. Кн. 546. Суздаль. Л. 6–15; РГАДА. Ф. 281. Суздаль. № 48/11827; см. также АРГ. АММС. М., 1998. № 82. С. 203–205.
11. АССЕМ. М, 1998. № 147; Лихачев Н. П. Заметки по родословию некоторых княжеских фамилий // Известия Русского генеалогического общества. СПб, 1900. Вып. I. (отдельный оттиск). С. 11 (то же см.: Архив П. М. Строева. Т. 1 // Русская историческая библиотека. Петроград, 1915. Т. 32. № 239).
12. АССЕМ. М., 1998. № 149.
В коллекции грамот Троице-Сергиева монастыря, которая хранится в рукописном отделе Российской государственной библиотеки в Москве, есть немало документов, позволяющих представить историю собирания этим монастырем земельных богатств. Среди них акты XV–XVI веков, касающиеся семейно-родовового клана Протопоповых – Мезецких – Пронских, неоднократно делавших вклады в этот крупнейший и могущественнейший монастырь. Большинство из них составлено мужчинами (главами семейств и их братьями, дядьями, деверьями и т. д.), которые имели широкие полномочия по распоряжению недвижимой собственностью. Но встречаются и «женские» вкладные и духовные (жен и вдов), а среди них – Духовная (завещание) некой Марфы Протопоповой, относящаяся к середине XVI столетия (Духовная… 1560–1561). Упомянутые в этой Духовной «действующие лица» позволяют реконструировать не только своеобразную семейную генеалогию, синхронизирующую различные ритмы и типы социально-исторического времени (общества в целом, поколения, индивидов), но и приоткрыть завесу тайны над частной жизнью современников Василия III и Ивана Грозного.
Главным действующим лицом происходивших около четырех веков назад событий была сама составительница Духовной – Марфа Протопопова. Как позволяют установить другие акты из той же коллекции по суздальскому и бежецкому уездам, Марфа была женой некоего Василия Кузьмича, служившего в середине 1520‑х го- дов протопопом придворного Благовещенского собора Московского кремля. Должность Василия Кузьмича и позволила его жене, детям и внукам носить фамилию Протопоповы (Кобрин 1983: 50). Относительно невысокий социальный статус супруга Марфы (должность протопопа была по значимости меньшей, чем должность настоятеля церкви – им несколько позже стал знаменитый Сильвестр, автор «Домостроя») заметно усиливался тем, что местом его службы был именно придворный собор. Там Василий Кузьмич время от времени имел возможность общаться не только с приближенными государя, но и с самим великим князем Василием III. Любопытно, что безродного, незнатного протопопа великий князь Василий III назвал в завещании 1523 года своим духовником («отцом духовным») (Духовная… 1523).
О повседневной жизни Василия Кузьмича и Марфы Протопоповых нам ничего не известно. Можно только догадываться о том, какой отпечаток наложила на их судьбы эпоха, время начавшейся эрозии прежних ценностей – родовитости и знатности. Их место в начале XVI века стало постепенно занимать личное богатство, которое в сочетании с приближенностью к «властным структурам» могло при благоприятных обстоятельствах компенсировать «худую породу». Сопоставление с современностью напрашивается само собой: Василий и Марфа Протопоповы были типичными «новыми русскими» XVI столетия. Судя по вкладным, родовых вотчин у них не было, зато были средства их скупать (РО РГБ 1540: 326), чем они и занимались, озабоченные судьбой двух своих детей – дочери Евфимии и сына Ивана. Постепенно земельные приобретения позволили неродовитой семье Василия Кузьмича рассчитывать на выгодное и удачное устройство судеб своих «чад». И если о семейной жизни сына Василия Кузьмича и Марфы, Ивана, ничего установить не удается, то о судьбе их дочери можно сказать, что она сложилась удачно, оправдав надежды матушки и отца. Незнатной, но богатой девушке удалось связать свою судьбу с отпрыском одного из самых древних, хотя и беднеющих, родов – князем Иваном (Меньшим) Михайловичем Мезецким (Зимин 1975: 39–41). Удельные властители города Мещовска (Мезецка) князья Мезецкие лишились удела при Иване III и в XVI веке уже никакой политической роли не играли. Отец Ивана Михайловича Мезецкого Михаил Романович имел кое-какие владения в Стародубе Ряполовском (недалеко от Серпухова), но уже сам князь Иван по тем временам был буквально «безземельным»: почти все его родовые владения оказались заложены-перезаложены (Акты… 1975; Рождественский 1897). Ратное дело было для него профессией, он мало времени проводил дома, растеряв то немногое, что досталось ему по наследству от отца (Лихачев 1900: 85).
Причинами, подтолкнувшими родовитого князя к браку с Евфимией, могли быть: высокий социальный статус предполагаемого тестя (придворного протопопа), наличие богатого приданого, на которое Иван рассчитывал, а может быть, то и другое вместе. Но каковы бы ни были мотивы заключения подобного брака, его неординарность очевидна, тем более что все канонические правила пестрели тогда предписаниями о заключении браков только с «ровней»[1]. В приданое Евфимии мать с отцом, как подсказывает Духовная Марфы, дали только движимость (деньги), сумев ничего не израсходовать из ранее приобретенной земельной собственности. Видимо, новоявленный зять настолько «поиздержался», что не мог – вследствие своего затруднительного материального положения – диктовать более выгодных условий. Брак с Евфимией был ему необходим не меньше, чем семье протопопа, мечтавшей породниться с княжеской фамилией. Сам Иван Мезецкий обретал богатых родственников, которые – как показывают купчие грамоты Марфы и Василия Протопоповых – не отказывали зятю в помощи, выкупая ранее заложенные им вотчины (Акты… 1505–1526: № 214, 215, 219). В XVI столетии покупка нуворишем чьих-то родовых земель была в порядке вещей, позже (в XVIII веке) подобного рода действия были бы запрещены законом.
Судя по всему, Иван Мезецкий не испытывал никаких «комплексов» от того, что тесть занимается его имущественными делами. Зато Василий Кузьмич не без плебейской гордости отметил в своей духовной, что он сам приобрел не только часть родовых земель Мезецких, но и одевал-обувал зятя-иждивенца, а также снаряжал его на государеву службу («покупал зятю своему на свои деньги доспех про него и на люди его, и кони») (Духовная… 1531–1532). По всей вероятности, пока зять находился в походах, Василий Кузьмич считал необходимым обустраивать материальное благосостояние его жены, своей дочери. В 1531 (или 1532?) году Василий Кузьмич, приняв монашество под именем Вассиан, умер. Имущественными делами родового клана суждено было теперь заниматься его вдове, причем не один год: протопопица пережила мужа почти на три десятка лет. Духовная Марфы была составлена в 1560–1561 годах и предъявлена для утверждения после ее смерти 10 августа 1561 года.
Ж. ЕВФИМИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПРОТОПОПОВА
КН. ИВАН ПЕТРОВИЧ (1539)
в 1539 вотч.-Стародуб-Ряполовск.-у. С::?
XVIІI генерація от Рюрика.
КН. БОРИС ИВАНОВИЧ (1552,1596)
1С:Ив.Фед.Сухого, воевода, моск.двн.(1589) дворов.сын-боярск. помещ.-Муром‑у. воев.Тетюши(1571), воев.Двина(1587‑,1590). воевода в правление Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича. Представитель княжеского рода Мезецких (Рюриковичи). Старший из двух сыновей князя Ивана Фёдоровича Мезецкого и внук князя Фёдора Фёдоровича «Сухого» Мезецкого.
В 1570–1578 гг. входил в Земский двор. В 1570—1571 годах князь Б. И. Мезецкий служил воеводой в разных полках, затем «в Тетюшах от казанские стороны город» ставил и был оставлен в нём на год 2‑м воеводой. В 1575 году вторично был прислан в Тетюши, откуда в 1576 году был оправлен головой в Казань. В 1577—1579 годах — 2‑й воевода в Тетюшах. В 1584 году князь Б. И. Мезецкий руководил строительством города Архангельска. В 1585—1586 годах — второй воевода в Астрахани. Московский дворянин в 1588/89 гг., в Шведском походе 1589/90 гг. (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 218, 323). В марте 1591 года князь Б. И. Мезецкий был отправлен на воеводство в город Ям, где служил до 1593 года. В 1594—1596 годах — воевода в Чебоксарах.
Князья Борис и Семен Ивановичи имели вотчинные землевладения в Дубровском стане Муромского уезда [Данная кн. Бориса Ивановича Мезецкого арх. Борисоглебского м–ря Самоилу на д. Гусли с пуст. в Дубровском ст. Муромского у. // РГАДА. – Ф. 281. – № 27/7759.]
Ж: КНЖ. АННА РОМАНОВНА ОДОЕВСКАЯ, дочь кн. Романа Ивановича Одоевского.
б/д
КН. СЕМЕН ИВАНОВИЧ (?-п.1570)
КН. ИВАН ПЕТРОВИЧ
КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ВЛАСОВ
КН. ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ВЛАСОВ (1552,1579)
2С:Ив.Вас. ВЛАСОВ; воевода, моск.двн.(1552) рында(1562) вотч.-Руза‑у.
В Дворовой тетради из Москвы (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 125). В 1566–1579 гг. входил в Земский двор. Дворянин 2‑й статьи на Земском соборе 25 июня–2 июля 1566 г. Окольничий на свадьбе короля Магнуса и княгини Марии Владимировны Старицкой в апреле 1573 г. В мае 1579 г. воевода в Брянске (Собрание государственных грамот и договоров. Ч. 1. М., 1813. С. 551; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 330; Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 65).. Упоминается в Московской десятне 1578 г.
Ж.: МАРИЯ (1573).
[Сташевский Е. Десятни московского уезда 7068 и 7094 // Чтения в обществе истории и древностей Российских (ЧОИДР). М.: Синодальная типогр. 1911. Кн. I. Отд. 1. 580 с. ‚с. 8].
КН. НИКИТА ИВАНОВИЧ ВЛАСОВ (1550,–1560/62)
3ст.моск.двн.(1550) дворов.сын-боярск. помещ.-Дорогобуж‑у. С:Ив.Вас.Фед-ча ВЛАСОВ.
стольник
КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ВЛАСОВ (1550,—15)
моск.двн.(1550) 1С:Мих.Вас. ВЛАСОВ.
КН. ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КОПЫТО ВЛАСОВ (1552,1560)
в 1552 моск.двн.(1552/60) 2С:Мих.Вас. ВЛАСОВ.
КН. ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1550?)
помещ. 3С:Мих.Вас. ВЛАСОВ.
КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ГОВДЫРЕВСКИЙ
В Патриаршей редакции конца XVI в. у князя Василия Ивановича показаны дети Иван и Михаил, а князь Федор Иванович назван бездетным [Родословная книга, 1851. C. 243; Кузьмин, 2012. C. 191; Родословная келейная книга… 1913. C. 54–55].
КН. МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОВДЫРЕВСКИЙ
В Патриаршей редакции конца XVI в. у князя Василия Ивановича показаны дети Иван и Михаил, а князь Федор Иванович назван бездетным [Родословная книга, 1851. C. 243; Кузьмин, 2012. C. 191; Родословная келейная книга… 1913. C. 54–55].
КН. ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОВДЫРЕВСКИЙ
Г.А. Власьев заметил, что в кормовых книгах Борисоглебского Ростовского монастыря имеется запись о вкладе «по Дмитрее Васильевиче Одыревъскомъ и по его родителехъ», а также по его княгине Домне, виноках Досифее. Вклад составлял сельцо Верзино и деревню Якимцово [Власьев, 1906. Т. 1. Ч. 2. C. 13; Титов, 1881. C. 10, 86, 88]. Князь Дмитрий Васильевич умер далеко от родового гнезда огдыревских князей, однако в своем новом имении обладал княжескими правами.
Еще один указанный в ДТ по Ростову князь «Дмитрей княж Васильев сын Салдыревского [Одыревского]», помеченный «Умре», происходил из Рюриковичей Юго-Западной Руси 10. Наличие у него и его княгини Домны («во иноцех Дософеи») земельных владений в Ростовском уезде подтверждается их вкладами в Ростовский Борисоглебский монастырь ( РБМ), в который Д. В. Одыревский передал с. Верьзейно (Верзеино) и 5 пустт. 11 Земельный вклад указывает на отсутствие сыновей и пресечение мужской линии данной фамилии. РБМ княгиня Домна завещала д. Якимцово (Якимово) Днем кончины княгини указано 28 февраля [ ВКРБМ. С. 10). Родословная книга князей и дворян российских и выезжих… С. 210; ТКДТ. С. 142.] Оба селения находились в Богородском стане на р. Лига 13. Князь Дмитрий отсутствует в «Бархатной книге», но, вероятно, был сыном князя Василия Ивановича 14.
Отсутствие Д. В. Одыревского в разрядах указывает на его смерть в молодых летах. Помета в ДТ «умре» дает основание датировать вклады в РБМ его и жены 1550-ми годами. Днем кончины княгини указано 28 февраля (ВКРБМ. С. 10). Родословная книга князей и дворян российских и выезжих… С. 210; ТКДТ. С. 142.13 При определении местонахождения сел и деревень использовалась составленнаяstrong А. Л. Грязновым карта «Ростовский уезд в XVII веке». Пользуясь случаем, благодарю А. Л. Грязнова за эту возможность.
14 Известия Русского генеалогического общества. СПб., 1900. Вып. 1. С. 86; Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий. СПб., 1906. Т. 1. Ч. 2. С. 13.
ИВАН ИВАНОВИЧ(1552,1586)
дворов.сын-боярск. помещ.-Можайск‑у. 1С:Ив.Сем.Ром-ча
В Дворовой тетради из Можайска (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 184). В 1566/67 г. в войске в Великие Луки находился с нагайскими мурзами (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 227; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 218).
До 1584–1586 гг. утратил поместье в Бохове стане Московского уезда село Михайловское с деревнями (500 четвертей средней земли) (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 224). Сын князя И. И. Мезецкого Даниил Иванович Мезецкий 3 июля 1626 г. составил духовное завещание. Просил похоронить его вместе с родителями в Боровске в Пафнутьевом Боровском монастыре. Упомянут его вклад в монастырь в 600 руб. Мать князя Данилы княгиня Феодосья похоронена в Калязином монастыре. Выделяется среди прочих старинная вотчина Данилы Ивановича сельцо Введенское с деревнями и пустошами (430 четвертей) в Можайском уезде, которой царь Федор Иванович пожаловал вместо села Варсобино с деревнями в Можайском уезде, взятой у его отца Ивана Ивановича в опричнину.
Ж.: КНЖ. ФЕОДОСИЯ ДМИТРИЕВНА ОХЛЯБИНИНА Д:Дм.Вас (—15?,† Калязин,Калязинский монастырь). Похоронена с дочерьми, без имен и дат>
КН. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КУШНИК (1560?)
помещ. 2С:Ив.Сем.Ром-ча
КН. МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (1590?)
1С:Фед.Сем.Ром-ча
КН. АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ (—1555,на Судбищах)
помещ. 2С:Фед.Сем.Ром-ча
КН. МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ВЛАСОВ МЕЗЕЦКИЙ (1550,1590)
моск.двн.(1589) голова(1590) 1С:Вас.Сем.Анд-ча КУКУБЯКА
сын Василия Семёновича.
Тысячник 3‑й статьи из Можайска. В Дворовой тетради из Можайска (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 76, 183). В Полоцком походе 1562/63 г. прибран в ясаулы (Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст) / Подг. текст К. В. Петров. СПб., 2004. С. 46). В 1566–1584 гг. входил в Земский двор. Дворянин 1‑й статьи на Земском соборе 25 июня–2 июля 1566 г.. Голова в передовом полку в походе на Колывань зимой 1576 г. Выборный дворянин из Рузы в земском боярском списке 1577 г.; наместник и воевода в Стародубе в марте, декабре 1578 г., 1579/80 г., 1580/81 г. В 1578 г. наместник и воевода в Стародубе. В 1583/1584 г. писец дворцовых земель Московского уезда. Сидел «в сенях на лавке» на посольском приеме в Москве в конце 1583 г. В декабре 1589 г. в разряде царского похода в Новгород был среди голов в есаулах (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 199; Собрание государственных грамот и договоров. Ч. 1. М., 1813. С. 549; Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 274, 288, 298, 311, 323, 415–416 ; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 424; Т. 3. Ч. 1. М.. 1984. С. 38; Каталог писцовых описаний Русского государства середины XV–начала XVII века / Сост. К. В. Баранов. М., 2015. С. 97; Сторожев В.Н. Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. М., 1908. С. 59). Московский дворянин в 1588/89 гг., в Шведском походе 1589/90 гг. (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 218, 323).
В 1567–1569 гг. за ним в Локношском стане Рузского уезда в вотчине село Евнево на р. Сестре с 9 деревнями (264 четверти в поле), ранее принадлежавшие князю Ф. И. Немому. В 1625–1626 гг. вотчина досталась князю Никите Михайловичу Мезецкому (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 425. Л. 425–427 об.; Рузский уезд по писцовой книге 1567–1569 годов / Сост. С.Н. Кистерев, Л.А. Тимошина. М., 1997. С. 200–201).
Среди выборных дворян нужно назвать следующих участников собора 1566 г.: ...М.В. Мезецкий(1 статья, выборный дворянин из Рузы в 1577 г., а в 1588/89 г. московский дворянин); в 1577 году командовал полком в Колыванском походе, в 1578—1582 гг. воевода и наместник в Стародубе.
Имел двоих дочерей.
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (?-1571) (1550,—1555)
воров.сын-боярск. помещ.-Можайск‑у. 2: Вас.Сем.
князь, воевода царя Ивана IV, средний из 3‑х сыновей кн. В. С.Мезецкого. В 1555 году сражался с татарами хана Девлет-Гирея в Судбищенском сражении и пал смертью храбрых.
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1550,1566)
дворов.сын-боярск. помещ.-Можайск‑у. вотч.-Владимир‑у. В 1566.07.02 <дворяне и дети боярские другие статьи> в Приговоре земск.собора 3С:Вас.Сем.
Д. Т.: из Можайска. Кн. И. В. Мезецкого Власова, упомянут также по Москве. Мезецкий Власов Иван Васильевич, кн. — в декабре 1541 г. в войске во Владимире был с царевичем Шигалеем в. п.р. [Разрядная книга 1475–1598 гг. М.: Наука, 1966. 620с., с. 103].
КН. ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (1566)
в 1566 помещ. С:Анд.Мих. ?
КН. ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ШАПЦЫН (1523,1572)
Единственный сын Ивана Михайловича Шапцы (Шапки), дворов.сын-боярск.помещ.-Владимир‑у. вотч.-Суздаль‑у.
Очевидно, жил не по средствам, не раз занимая деньги у кузины княгини Авдотьи и московского Богоявленского монастыря под залог принадлежавших ему где-то с начала 50‑х гг. XVI в. отцовских владений.87 Тем не менее Юрию Шапкину удалось избежать продажи вотчины за долги, так что и в XVII в. село Васильевское продолжало принадлежать наследникам князя.88
Семен, брат Петра, часть полученной им доли отдал в приданное зятьям — князьям Василию Ивановичу Коврову и Петру Борисовичу Корове Пожарскому, 89 еще около 10 поселений завещал племянникам — Юрию Шапкину и Авдотье Шемякиной-Пронской (урожденной Мезецкой — в духовной Семена она названа Софьей). 90
Первая кабала, отложившаяся в документах Суздальского Покровского девичьего монастыря,91 в 1996 г. была издана С. М. Каштановым.92 В публикации исследователь не смог идентифицировать личности послухов, а главное атрибутировать акт как принадлежащий архиву московского Богоявленского монастыря. Поскольку именно по этой причине грамота не попала в вышедшие в свет позднее хронологический перечень актов обители А. В. Антонова и подборку богоявленских актов, подготовленную В. Д. Назаровым и Т. Н. Алексинской, мы считаем необходимым осуществить повторную публикацию этого источника.
К настоящему времени сохранился лишь конец кабалы, содержащий перечень послухов и их рукоприкладства. Тем не менее, принадлежность грамоты архиву Богоявленского монастыря доказывается предшествующим ее тексту заголовком, составленным архивными работниками во время формирования дела (до 4 июля 1941 г.): «1559. Заемная запись князя Юрия Мезецкова Шапкина. (Занял деньги 40 р. у Богоявленских старцев под залог мельницы)».93 Следовательно, начало акта было утрачено не ранее 40‑х гг. XX в.: вероятнее всего, это произошло при расклеивании столбцов с текстом кабалы. Упоминаемых в заголовке грамоты «богоявленских старцев» мы склонны отождествлять с братией московского Богоявленского монастыря: власти именно этой обители еще по крайней мере дважды предоставляли ссуды князю Ю. И. Шапкину Мезецкому (подробнее см. ниже), тогда как о характере контактов и мотивах сотрудничества последнего с другими духовными корпорациями приходится только догадываться. Дополнительным, хотя и косвенным аргументом в пользу нашей точки зрения является факт присутствия среди послухов кабалы дьяка Дмитрия Васильева, имя которого мы также находим и во втором публикуемом нами акте, чья принадлежность архиву московского Богоявленского монастыря не вызывает сомнений.
Ответ на вопрос, как рассматриваемая кабала попала в собрание покровских актов, дает локализация отданной князем в заклад мельницы. Сам факт обнаружения источника в документах Покровского монастыря уже свидетельствует о переходе в собственность обители каких-то земель, ранее принадлежавших князю Ю. И. Шапкину Мезецкому. Единственной известной вотчиной князя является село Васильевское (ныне Шапкино) в Стародубе Ряполовском. К селу тянули деревни и угодья по обоим берегам нижнего течения реки Шижехты и по левому берегу реки Клязьмы, в которую Шижехта впадает.94 Значит, именно в этом районе нужно искать владения Покровского монастыря, а на их территории то место, где располагалась мельница, заложенная князем Ю. И. Шапкиным Мезецким Богоявленскому монастырю. И действительно, в писцовых книгах XVII в. на реке Шижехте мы находим небольшую вотчину Покровского монастыря (2 деревни и 8 пустошей), полученную обителью в 1567/68 г. от князя Ивана Борисовича Ромодановского.95 Сама данная князя И. Б. Ромодановского Покровскому монастырю пока не отыскана, однако в ее изложении отмечено, что вклад был сделан князем «в Стародубе Ряполовском в Олексине на вотчину свою куплю селцо деревню Щетининскую з деревнями да с мел[н]ицею на реке на Шижехте» 22. Шесть деревень этой вотчины князь купил в 1553/54 г. у князя Василия Ивановича Коврова, которому они достались в качестве приданного от тестя, князя Семена Михайловича Мезецкого 23. Неясны обстоятельства приобретения князем И. Б. Ромодановским остальной части впоследствии переданной им в Покровский монастырь вотчины – сельца Щетининского с деревнями Нестерово, Княгининская (Княжье) и починком Коромысловым, а также мельницы на реке Шижехте. Тем не менее факт соседства всего этого вотчинного комплекса в 1567 г. лишь с одним светским землевладельцем – князем Ю. И. Шапкиным Мезецким 24, – подводит нас к выводу о том, что только ему названные поселения могли принадлежать по крайней мере до конца 1550‑х гг., и что под залог именно этой мельницы ему пришлось занимать деньги у богоявленских старцев. Следовательно, интересующая нас кабала, равно как и упомянутая выше купчая (продажная) князя В. И. Коврова, была передана Покровскому монастырю князем И. Б. Ромодановским в качестве дополнительной владельческой документации, подтверждавшей законность совершенного им вклада в эту обитель. Кстати, при обращении к актам нельзя не заметить, что указанные владения князя Ю. И. Шапкина Мезецкого (как те, что были проданы им князю И. Б. Ромодановскому, так и те, что фигурировали в составе его вотчины в 1567 г.) лежали чересполосно основному массиву его вотчины, а рассматриваемая мельница находилась значительно выше по течению Шижехты, нежели мельница принадлежавшая в 1538 г. его отцу 25. На наш взгляд, данное противоречие объясняется следующим образом. Дело в том, что еще ранее земли в среднем течении реки Шижехты принадлежали бездетному князю Петру Михайловичу Мезецкому. В документах наиболее подробно освещена судьба лишь той части расположенных в указанном районе выморочных владений последнего, что досталась его брату князю С. М. Мезецкому: в 40‑е гг. XVI в. тот отдал их в приданное зятьям князю В. И. Коврову и князю П. Б. Пожарскому, а деревню Дубакинскую (Дубакино), впоследствии ставшую центром стародубской вотчины Богоявленского монастыря, продал княгине Авдотье Горбатой 26. В свете этих данных мы вполне можем заключить, что и находившаяся поблизости от них анклавная вотчина князя Ю. И. Шапкина Мезецкого, состоявшая из ряда деревень и мельницы на реке Шижехте, была получена им, вероятнее всего, также по наследству от князя П. М. Мезецкого.
Среди вновь найденных документов наибольший интерес вызывает писцовое описание спорных пустошей Перхово-Пелхово и Коптевской-Юрково, поскольку в него включен текст неизвестной по другим источникам закладной кабалы князя Юрия Ивановича Шапкина Мезецкого властям Богоявленского монастыря, согласно которой зимой 1560 г. обитель предоставила князю крупную (60 рублей) ссуду под залог последним части своей вотчины в Стародубе Ряполовском. Принадлежность кабалы архиву именно московского (а не какого-либо другого) Богоявленского монастыря устанавливается по упоминанию в ней игумена Феодосия, но в большей степени благодаря отмеченному в писцовом [264] описании заявлению князя И. Ю. Мезецкого о том, что «золожил был отец его те деревни у Богоявленскова монастыря, что на Москве за Торгом» 36.
Примечательно, что в обоих актах контрагентом богоявленских старцев выступает князь Юрий Иванович Шапкин Мезецкий. Сведений о нем сохранилось немного. В официальной документации его имя встречается лишь однажды: в тексте Дворовой тетради он вместе с дядей князем Семеном Михайловичем Мезецким показан помещиком в Стародубе 37. По верному замечанию В. Б. Кобрина применительно к князьям Мезецким термин «помещик» был употреблен источником в его архаическом значении, «когда помещиком называли всякого служилого человека, перемещенного на новое место» 38. И действительно, князья Мезецкие обосновались в Стародубе Ряполовском лишь на рубеже XV–XVI столетий, после того как князь Михаил Романович Мезецкий по обмену с Иваном III получил в вотчину территорию бывшего Алексинского стана 39. Не входя в корпорацию стародубских княжат, Мезецкие не подпадали под ограничительные статьи уложений о вотчинах Ивана III и Василия III и Соборного приговора 1551 г., а потому активно продавали, закладывали и давали в монастыри свои земли. В частности, интересующий нас князь Ю. И. Шапкин Мезецкий только в 50–60‑е гг. XVI в. несколько раз получал ссуды под залог доставшихся ему по наследству владений. Так, все тому же Богоявленскому монастырю он заложил в 10 рублях пустошь Коптевскую-Юрково 40, а своей кузине княгине Авдотье Ивановне Шемякиной Пронской – две деревни в 15 рублях; в духовной (1564/65 г.) княгиня, простив указанный долг, завещала ему еще десять деревень, тянувших к ее селу Алексину 41, которые тот скорее всего не получил: в писцовом описании 1592/93–1593/94 гг. в составе вотчинного комплекса села Алексина фигурируют по меньшей мере семь из десяти предназначавшихся князю деревень 42, равно как и деревни, которые по тому же завещанию должны были унаследовать княгини М. С. Коврова и Ф. С. Пожарская 43. Завершая рассмотрение вопроса о землевладении князя Ю. И. Шапкина Мезецкого, отметим, что еще в 1540–50‑е гг. [265] князь отдал в заклад брату тестя Семену Дмитриевичу Пешкову Сабурову приданную вотчину своей супруги сельцо Босиху в Костромском уезде 44.
Отмеченные эпизоды из жизни князя Ю. И. Шапкина Мезецкого красноречиво говорят об одном: к началу 1560‑х гг. его финансы были изрядно расстроены, что и стало мотивом сотрудничества разорившегося аристократа с богоявленскими старцами. Но и сам монастырь был сильно заинтересован в закабалении князя. На эту мысль наводит географическая локализация упомянутых во второй кабале поселений, два из которых – Пельхово и Сергеево существуют и в настоящее время. Примерно в четырех километрах к западу от них находится деревня Дубакино, с 1558 г. ставшее центром стародубской вотчины Богоявленского монастыря 45. Тут же располагались и другие владения князя Ю. И. Шапкина Мезецкого, которые он закладывал богоявленским старцам: в трех километрах к северу от деревни Дубакино стояла мельница на реке Шижехте, а вблизи нее – деревня Коптево (Коптевская, Юрково тож), запустевшая еще в середине XVI в.96 Вывод очевиден: ссужая деньги своему титулованному соседу, обитель прежде всего заботилась о расширении и округлении собственной латифундии, преследуя, в конечном счете, цель создания крупной монастырской вотчины в северо-западной части Стародуба Ряполовского. Однако вопреки расчетам монахов на некредитоспособность князя тому все же удалось выкупить (возможно чужими деньгами, поскольку сам он вряд ли располагал свободными средствами) заложенные мельницу и деревни, и если мельница, как было показано выше, вскоре оказалась в вотчине Суздальского Покровского монастыря, то деревнями его сын продолжал владеть и в 90‑х гг. XVI в.97
∞, Мария Никифоровна Пешкова-Сабурова, дочь Никифора Дмитриевича Пешкова-Сабурова.98
16
17.
18.
19.
20.
21.
22. ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. № 421. Л. 13. Через некоторое время после совершения вклада мельница запустела: писцовое описание стародубской вотчины Покровского монастыря (см. предыдущее примечание) уже не упоминает о ней.
23. Текст указанной купчей-продажной князя В. И. Коврова князю И. Б. Ромодановскому и характеристику обстоятельств совершения сделки см. в нашей статье: Давыдов М. И. Место родственных и корпоративных связей в повседневной жизни феодалов Московии (анализ частного случая отчуждения светской вотчины в середине XVI века) // Управление экономической и социальной сферой: история и современность. М., 2001. С. 145–155.
24. АССЕМ. М., 1998. № 149. С. 305–306.
25. Первая мелышца располагалась вблизи устья реки Черной, правого притока Шижехты (АССЕМ. М, 1998. № 149. С. 306), а вторая между устьями рек Колбаши (Колбаски) и Бабьей (Бабачки), также правых притоков Шижехты (АРГ. АММС. М., 1998. № 82. С. 208). Таким образом, расстояние между мельницами могло составлять от 4 до 8 км: Российский Государственный военно-исторический архив. Фонд Военно-ученого архива. № 21272: Семитопографическая карта Владимирской губернии, составленная чиновниками Департамента государственных имущсств (1813 г.). Л. 13.
26. РГБ. Ф. 303/II. Кн. 545. Суздаль. Л. 63; АРГ. АММС. М., 1998. № 60. С. 149; № 61. С. 150. О принадлежности деревни Дубакинской князю П. М. Мезецкому см. там же № 82. С. 208.
36. ГАВО. Ф. 417. Оп. 3. № 10. Л. 50.
37. ТКДТ. М.-Л., 1950. С. 123. О низком социальном статусе князя свидетельствует форма написания его имени в источнике: «Юшка княж Иванов сын Шапцын Мезецкого».
38. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV–XVI вв.). М., 1985. С. 100.
39. ДДГ. М.-Л., 1950. № 89. С. 355.
40. По словам князя И. Ю. Мезецкого его отец заложил пустошь всей братии Богоявленского монастыря (ГАВО. Ф. 417. Оп. 3. № 10. Л. 50). В то же время проведенный Я. П. Вельяминовым и Ф. Андреевым обыск показал, что деньги князю были предоставлены не казной обители, а его близким свойственником богоявленским старцем Ионой Протопоповым (Там же. Л. 49 об., 52). Трудно сказать, какое из этих утверждений истинно. Ясно одно: в любом случае власти монастыря были в курсе происходящего.
41. АРГ. АММС. М., 1998. № 82. С. 203.
42. ПКМГ. СПб., 1872. Т. 1. С. 866, 869, 870. Еще две деревни – Лихорево и Бабишкино – предположительно можно отождествить с упомянутыми в том же описании деревней, что была пустошь Лихотеево и деревней, что был починок Бобашкин (там же. С. 866, 869). Не удалось проследить владельческую историю лишь одного поселения – деревни Голощапово.
43. АРГ. АММС. М., 1998. № 82. С. 203. Три деревни из четырех отождествляются без затруднений (ПКМГ. СПб., 1872. Т. 1.С. 868), четвертая – Голево, или Даголево (текст завещания допускает оба варианта прочтения), – может быть соотнесена с деревней Догулево, описанной в писцовой книге следом за предыдущими тремя деревнями (там же. С. 869).
44. Лихачев Н. П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. СПб., 1895. № 13. С. 44.
45. Ивановская область. Топографическая карта... С. 20, 21; АРГ. АММС. М., 1998. № 60. С. 149; № 61. С. 151.
46.
47.
[Две кабалы князя Ю. И. Мезецкого из архива Московского Богоявленского монастыря // Русский дипломатарий, Вып. 9. М. Древлехранилище. 2003]
СОФЬЯ ИВАНОВНА (1557)
в 1557 д.кн.Ивана Михайловича Мезецкого.
Семен, брат Петра, часть полученной им доли отдал в приданное зятьям — князьям Василию Ивановичу Коврову и Петру Борисовичу Корове Пожарскому, 99 еще около 10 поселений завещал племянникам — Юрию Шапкину и Авдотье Шемякиной-Пронской (урожденной Мезецкой — в духов-ной Семена она названа Софьей). 100 В духовной С. М. Мезецкого Авдотья названа Софьей не случайно: это было ее крестильное имя, что подтверждается фактом принадлежности княгине образа «Софеи Премудрые» (АРГ. АММС. № 82. С. 205). Авдотья, кажется, так и не успела (или не смогла) получить дядино наследство (дальнейшая судьба причитавшихся ей деревень не ясна); Юрий же, напротив, сумел закрепить за собой по меньшей мере часть предназначавшихся ему владений (АССЕМ. № 149. С. 305).
Кн. Борис Семенович (1560?)
младенец, С:Сем.Мих. /ин СЕРАПИОН/
Кн. Иван Семенович кн. (1560?)
мл. сын помещика С:Сем.Мих. /ин СЕРАПИОН/
ЕВДОКИЯ СЕМЕНОВНА (1560?)
мл. Д:Сем.Мих. /ин СЕРАПИОН/
КН. МАРИЯ СЕМЕНОВНА (1560,1572)
Семен, брат Петра, часть полученной им доли отдал в приданное зятьям — князьям Василию Ивановичу Коврову и Петру Борисовичу Корове Пожарскому. 101 Мужья и дети дочерей Семена Михайловича — Марии Ковровой и Федосьи Пожарской — к началу 70‑х гг. XVI в. скончались. Так что скорее всего приданные вотчины сестер тогда были вновь кооптированы в состав принадлежавшего им села Лучкино, хотя и в неполном составе, поскольку еще в 1553/54 г. В.И. Ковров продал 6 полученных от тестя деревень своему свойственнику — князю Ивану Борисовичу Ромодановскому. 102.
Село Лучкино князь Семен Михайлович с 32 ½ деревнями и 3 пустошами оставил дочерям Марии и Федосье. 103 Около 1566/67 г. 19 деревень и починков села перешли от сестер в руки князей Никиты и Силы Григорьевичей Гундоровых; в 1572/73 г. княгиня Ульяна Григорьевна, вдова последнего, отказала эти деревни Владимирскому Рождественскому монастырю, 104 однако тот не сумел удержать их за собой — в XVII в. указанные поселения показаны в поместных землях. 105 Само же село Лучкино с 13 деревнями и 2 пустошами Мария и Федосья в 1571/72 г. завещали Спасо-Евфимьеву монастырю, 106после чего приняли постриг в стенах суздальской Покровской обители. В качестве соборных стариц названной обители инокини Евдокия Коврова и Фетинья Пожарская упоминаются вплоть до самого конца XVI в. (ГАВО. Ф. 575. Оп. I. № 17. Л. 1, 4, 60; № 52. Л. 7; № 85. Л. 1; № 127. Л. 4; № 239. Л. 2; №265. Л. 3). Вероятно, дочери С. М. Мезецкого отчуждали свои земли и другим феодалам, у которых те были отобраны верховной властью. На эту мысль нас наводит тот факт, что две из пяти деревень сестер в Заборье (западная часть Алексинского стана) в XVII в. числились дворцовыми (деревни Душилово и Коромыслово — ср. там же. № 97. С. 222 и РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 212. Л. 360 об.-361).
В 1572 г. вдовой, после Князя Василия Ивановича, Мариею, урожденною Княжной Мезецкой, к тому же монастырю приложены: сельцо Андреевское, деревни Сувориха, Салтаново, Угримово, Фролово с пустошами, лесом, рыбными и бобровыми ловлями.
Данная Княгинь Ковровой и Пожарской в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь 1572 года.
«Се язъ Княжъ Васильева Ивановича Княгиня Марья Коврова да язъ княжъ Петрова Борисовича Княгиня Феодосия Пожарсково дали есмя въ домъ милосердому Спасу и преподобному Чудотворцу Евфимию что въ Суздале Архимандриту Иеву збратьею или кто по немъ въ томъ монастыре иной архимандритъ будетъ, отпа своего благословленье Князя Семена Михайловича Мозецково по отце по своемъ Князе Семене и по матери своей Княгине Полагее и по своемъ Княже Василье Ивановиче Коврова да язъ Княгиня Федосья по Князе Петре Борисовиче Пожарскомъ и по своихъ детяхъ по Князе Юрье да по Князе Александре да по Князе Иване да по Княжне Варваре и по своимъ дяде по Князе Петре Михайловиче Мезецкомъ да по Князе Семене младенце Коврова и по всехъ своихъ родителехъ внаследие вечныхъ благъ, впрокъ безвыкупа вотчину в Володимерскомъ уезде в Стародубо вряполовскомъ сельцо Лучкино, а въ немъ храмъ Михайло Архангелъ да теплая церковь, а вней два престола Благовещенье да Рождество Христово здеревнями деревня Юрькинечь, деревня Дубровка, деревня Реткино, деревня Коряково, деревня Бурнаково, деревня Конисчево починокъ Сосыгинъ деревня Мещиково, деревня Якунинская, селище Карповка, деревня Изотино, деревня Ходилка, селище Масловка, деревня Михеевка спашнями и слесы и пожнями здомашними и сотхожими и сперевесы и срыбными ловлями и збортнымъ ухожьемъ и збобровыми ловлями да къ тому же селу и кдеревнямъ прудъ на устье реки Шижохты а на немъ мельница да ктому же селу озеръ озеро Кривое да озеро Некрасово съ истокомъ съ вешнимъ и зимнимъ да озеро Пухро озеро Мостовое озеро Торки, а изъ него истокъ Чиркинъ зимней озеро Мининское и со всякими угодьи что къ тому сельцу и кдеревнямъ изстари потяглу куды ходилъ плугъ и соха и коса и топоръ да къ тому же сельцу и кдеревнямъ озеро Торхи вопче одно со Княземъ Силою Гундоровымъ а бобровая ловля вопче со Княземъ Силою и со Княземъ Юрьемъ да съ Иеною съ Протопоповымъ и Архимандриту Иеву збратьею за ту отчину родители наши повелети написати всенадики влитейной и въ вечной коихъ въ сей данной имяны писаны и пока места язъ Княгиня Марья да язъ Княгиня Феодосья живы и Архимандриту Иеву за насъ…»
/Стародуб городок над Клязьмой. Летопись Ковровского уезда. Впуск 4. Н.В. Фролов, Э.В. Фролова. Ковров 1997/
м: кн. Василий Иванович Ковров
КН. ФЕОДОСИЯ СЕМЕНОВНА (1558,1572)
Семен, брат Петра, часть полученной им доли отдал в приданное зятьям — князьям Василию Ивановичу Коврову и Петру Борисовичу Корове Пожарскому. 107 Мужья и дети дочерей Семена Михайловича — Марии Ковровой и Федосьи Пожарской — к началу 70‑х гг. XVI в. скончались. Так что скорее всего приданные вотчины сестер тогда были вновь кооптированы в состав принадлежавшего им села Лучкино, хотя и в неполном составе, поскольку еще в 1553/54 г. В.И. Ковров продал 6 полученных от тестя деревень своему свойственнику — князю Ивану Борисовичу Ромодановскому. 108 Село Лучкино князь Семен Михайлович с 32 ½ деревнями и 3 пустошами оставил дочерям Марии и Федосье. 109 Около 1566/67 г. 19 деревень и починков села перешли от сестер в руки князей Никиты и Силы Григорьевичей Гундоровых; в 1572/73 г. княгиня Ульяна Григорьевна, вдова последнего, отказала эти деревни Владимирскому Рождественскому монастырю, 110 однако тот не сумел удержать их за собой — в XVII в. указанные поселения показаны в поместных землях. 111 Само же село Лучкино с 13 деревнями и 2 пустошами Мария и Федосья в 1571/72 г. завещали Спасо-Евфимьеву монастырю, 112после чего приняли постриг в стенах суздальской Покровской обители. В качестве соборных стариц названной обители инокини Евдокия Коврова и Фетинья Пожарская упоминаются вплоть до самого конца XVI в. (ГАВО. Ф. 575. Оп. I. № 17. Л. 1, 4, 60; № 52. Л. 7; № 85. Л. 1; № 127. Л. 4; № 239. Л. 2; №265. Л. 3). Вероятно, дочери С. М. Мезецкого отчуждали свои земли и другим феодалам, у которых те были отобраны верховной властью. На эту мысль нас наводит тот факт, что две из пяти деревень сестер в Заборье (западная часть Алексинского стана) в XVII в. числились дворцовыми (деревни Душилово и Коромыслово — ср. там же. № 97. С. 222 и РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 212. Л. 360 об.-361).
∞, кн. Петр Борисович Корова Пожарский
КЖ. ЕВДОКИЯ (ИН. ЕВФРОСИНИЯ) ИВАНОВНА МЕЗЕЦКАЯ (1539,1565)
дочь князя Ивана Семёновича Мезецкого и и Евфимии Протопоповой. Супруга одного из воевод Ивана Грозного Юрия Ивановича Шемякина-Пронского, героя походов на Казань и Астрахань.
В 1531 (или 1532?) году Василий Кузьмич, приняв монашество под именем Вассиан, умер. Имущественными делами родового клана суждено было теперь заниматься его вдове, причем не один год: протопопица пережила мужа почти на три десятка лет. Духовная Марфы была составлена в 1560–1561 годах и предъявлена для утверждения после ее смерти 10 августа 1561 года. Начальный текст духовной позволяет узнать о том, что брак Евфимии и Ивана не был бездетным. В 1532 году у них уже росла дочка, названная Авдотьей, которой ко дню смерти деда исполнился 1 год и 20 недель. Следовательно, малышка родилась примерно в 1530 (или 1531) году. По неизвестным нам причинам Авдотье суждено было вскоре остаться сиротою: и ее мама Евфимия Васильевна, и отец Иван Михайлович рано умерли, так что девочку пришлось воспитывать бабушке. Сквозь сухую ткань правового памятника к нам – через четыре с лишним века! – прорвалась человечность, особая теплота отношения Марфы к внучке, сконцентрировавшись всего лишь в одном слове – «маленька», которое попало в Духовную. Был у девочки и второй опекун («кормилец») – ее дядя, старший сын протопопицы Марфы Иван Васильевич Протопопов. Именно им, опекунам, бабушке и дяде, пришлось спустя время решать вопрос о замужестве Авдотьи. Подобные дела в московских семьях XVI века – особенно когда речь шла о первом замужестве – вершили не сами вступавшие в брак, а их родители и родственники. Все «хотения» невест опосредовались волей родных, которые и приносили «по ним, что вдадуче» (приданое). Летописные столбцы полны сообщений о «приведенных» князьям невестах: глагол «приводить», «вести» среди многих значений имел и такое, как «заключение брачных уз». Впрочем, приоритет родственников в решении вопроса о замужестве не был правовым ограничением одних только женщин: брачные дела сыновей, женившихся в первый раз, тоже, как правило, решали родители.
Её брак был заключен при не совсем обычных для средневековой Руси обстоятельствах. Из духовной грамоты бабушки невесты — Марфы, вдовы благовещенского протопопа Василия Кузьмича, мы узнаём историю замужества её внучки княжны Евдокии (Авдотьи) Мезецкой. После смерти родителей — князя Ивана Мезецкого и Евфимии Протопоповой — сирота осталась на попечении бабушки. Когда она подросла, бабушка и дядя-опекун Иван Протопопов «сговорили» ее (не позднее июня 1546 года) за представителя старомосковского боярского рода Ивана Михайловича Воронцова. Сговор был оформлен по всем правилам, о которых сообщает Котошихин: «…и они меж себя, с обе стороны, учнут уговариватца о всяких свадебных статьях и положат свадбе срок, как кому мочно к тому времяни изготовится, за неделю, за месяц, и за полгода, и за год и болши… а напишут, что ему по тому зговору тое невесту взять на прямой установленный срок, без пременения, а тому человеку невесту за него выдать на тот же срок, без пременения, и положат в том писме между собой заряд: будет тот человек на тот установленной срок не выдаст, взяти на виноватом 1000, или 5000, или 10 000 рублев денег, сколко кто напишет в записи».
Однако на сей раз планы сватов неожиданно разрушила сама невеста. «И по грехом моим, вражью споною внука моя за Ивана не похотела», — пишет Марфа. Родне невесты пришлось платить внушительный «заряд» (неустойку), что, несомненно, было большой редкостью. Однако бабушка, жалея Евдокию («ее для слез»), выложила целых 500 рублей, продав для этого два села. Отказав Воронцову, княжна стала женой храброго воеводы князя Юрия Ивановича Шемякина-Пронского. Брак этот был бездетным и недолгим — через восемь лет в 1554 году, достигнув боярского чина, князь скончался. Вдова в монахини не постриглась, но и замуж не вышла, храня верность любимому[2].
Умершему в 30‑е гг. XVI в. младшему сыну М.Р. Мезецкого Ивану Меньшому наследовала дочь Авдотья. По данным 1538/39 г. в ее половине села Алексино насчитывалось 45 деревень и починков (всего 111 жилых дворов, из которых около полудюжины принадлежали людям дядьев Авдотьи — Ивана Шапки и Петра), а также 3 пустоши . Рано овдовев, Авдотья в 1559/60 г. передала обе (свою и дяди Петра) половины села, а также принадлежавшую ей долю в тянувших к нему деревнях Троице-Сергиеву монастырю; при этом она оставила за собой право пожизненного проживания в Алексине . Незадолго до смерти, в 1564/65 г., княгиня в своей духовной подтвердила вклад Троице; то-гда же она пожаловала несколько деревень трем наиболее верным слугам9.
7 АРГ.АММС. № 82. С. 205–209. По церкви эта половина села именовалась Алексино Якиманское.
8 Там же. № 82. С. 202. О судьбе прочих владений Авдотьи (доставшихся ей от дяди Петра) см. выше.
9 Там же. № 82. С. 203–204. Из полудюжины деревень, завещанных княгиней своим слугам, три стали дворцовыми (деревни Корзино, Кочино тож, Гришакова, Потаповская — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 212. Л. 365-об., 367), а починок Вшивков перешел во владение Юрия Шапкина и его потомков (Там же. Кн. 11320. Ч. II. Л. 1184 об., 1198 об., 1213).
В Духовной грамоте княгини Авдотьи (Евдокии) Ивановны Шемякиной-Пронской 7073 (1564/65) года говорится: «... да к Пятнице за болотом же шубка багрец червьчат, да к Ивану Предотече за Волотом же шупка скорлат червчат».
Скорлат (фр. écarlate) — ярко-красный, алый. Сорт сукна, изготовлявшегося во Франции, первоначально только алого цвета. Французские сукна по-русски шарлат. Червчатый — темно-красный цвет. В XVII веке шубы стали покрывать цветными тканями. Судя по всему, именно такую шубу, покрытую красной французской тканью и завещала Авдотья Шемякина-Пронская храму Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором в Заречье. Это упоминание храма в завещании княгини стало первым надежным источником в истории этой церкви.
Точная же дата бракосочетания Авдотьи с Юрием неизвестна. Ее можно вычислить, если учесть, что стольник Ю. И. Шемякин-Пронский впервые упомянут в числе молодых аристократов в 1546 году, а затем в 1547 году – как участник свадебных церемоний Ивана IV с Анастасией Романовой (участвовать в них он мог, если только был женат). Это и позволяет думать, что брак Авдотьи и Юрия совершился в 1546 году, когда несостоявшийся первый жених был посажен «за приставы на Коломне». Как сложилась жизнь мезецкой княжны с избранником? Стоило ли ей плакать, подталкивая тем самым бабушку к продаже сел для выплаты неустойки Воронцовым? По рождению Юрий Шемякин-Пронский принадлежал к известной ветви рязанских князей – владельцам города Пронска «со окрестности». Отец его, Иван Шемяка, был бравым воякой, за что был замечен еще Василием III, а в 1544 году был пожалован боярством. Умер Иван Шемяка вскоре после свадьбы сына[7] и, судя по всему, своему «чаду» – Юрию, избраннику Авдотьи, – несмотря на свое боярство, ничего существенного в наследство не оставил. Юрий был небогат. Все, чем владела молодая чета, было до свадьбы собственностью Авдотьи. Так что с обеспеченностью зятьев Протопоповым, прямо скажем, не везло. Марфа с плохо скрытой иронией отметила в Духовной: «что есмя давали зятю своему приданово – деньги, и платья, и кони, и то зять наш прослужил на царской службе». То есть от государевой службы Юрий, как в свое время и его отец, не сумел получить каких-либо льгот и приобретений. И даже более того, вынужден был время от времени пользоваться щедростью тещи. А куда ему было деться?.. Молодым не суждено было часто видеться, жить по-семейному: Юрию приходилось все время являться по зову государя «конному, людному и оружному». К пронскому князю со всем основанием можно отнести слова князя Курбского о самом себе: «Яко мало и рождешии мене зрех и жены моея не познавах, и отечества своего отстоях...» (Переписка… 1979: 8). Действительно, не успел князь Пронский жениться, как пришлось ему покинуть и дом, и молодую жену Авдотью, и богатую тещу (кто знает, как он к ней относился), направляясь в один поход, затем в другой. В 1549–1550 годах Юрий участвовал в них уже рындой, с октября 1550 года служил воеводой в Нижнем Новгороде, лишь изредка, по всей видимости, наезжая домой, к жене. Продвижение по «лестнице славы» в то время практически исключало личную жизнь, если понимать под ней жизнь домашнюю. Воеводой пришлось служить Юрию Ивановичу и в 1551 году, когда его послали в город Михайлов на реке Проне. Оттуда осенью того же года он отправился в Рязань «по ногайским вестям». Около 1554 года Юрий Пронский за личную храбрость и полководческие таланты, проявленные в Казанском походе, получил боярство (Милюков 1901). То есть боярыней должна была стать и Авдотья, а вместе с этим титулом получить право на какой-то иной образ жизни… Но Юрий неожиданно скончался (в 1555 году?). Андрей Курбский, описывая взятие Казани в 1552 году – а князь Пронский принимал в участие в этом походе, – назвал его «юношей». Следовательно, в год свадьбы Юрию было всего 17–18 лет, а скончался он, не достигнув и тридцати. Брак Юрия и Авдотьи вряд ли поэтому длился более восьми лет. Детьми их Господь «не пожаловал»: в документах монастыря ничего не говорится о заупокойных вкладах по детям Авдотьи и ее супруга. К середине 1550‑х годов внучка независимой Марфы Протопоповой осталась молодой (25-летней) вдовой, боярыней, и весьма обеспеченной. Ее бабушка еще была жива, но трудно сказать, насколько она сопереживала одиночеству внучки. А перед Авдотьей благодаря бабушкиным накоплениям вполне могли быть открыты перспективы вторичного замужества. Тем более что оно допускалось православным каноническим правом как уступка человеческой слабости, особенно «аще детей не было от перваго брака». Но замуж Авдотья не вышла. Не оттого ли, что была верна памяти человека, ради которого настояла на расторжении помолвки с первым женихом? Как и многие ее современницы, молодая вдова пыталась забыться, погрузившись в хозяйственные хлопоты. Верная своему воспитанию («кровь не вода»!), Авдотья успешно провела в 1557–1558 годах тяжбу о смежных угодьях, отсудив «землицу» у двоюродного брата и его отца, чем в известной степени компенсировала земельные потери Протопоповых (на радость бабушке). Чуть позже Авдотья сделала вклад в Троице-Сергиев монастырь в виде сельца Алексино, выговорив себе право пользоваться им пожизненно (Вкладная… 1559–1560). Кроме того, памятуя доброе к себе отношение дяди и бывшего опекуна Ивана Васильевича Протопопова, она вместила в текст вкладной разрешение взять ему Алексино в пожизненное владение и пользоваться им, если она сама умрет первой. Вероятно, Авдотья чувствовала себя после потери близкого человека рано и безнадежно постаревшей. В 1564–1565 годах (через три года после смерти бабушки, когда ей исполнилось всего 34 года!) она уже составила духовную. Текст ее хранится в той же коллекции грамот (актов), что и завещание Марфы Протопоповой. В духовной Авдотья прощала долги, подтверждала ряд вкладов в монастыри, завещала три деревни слугам. На первый взгляд, неожиданно в тексте документа оказалось ее распоряжение похоронить себя в Троице-Сергиевом монастыре. Это нарушало семейную традицию: все предки Авдотьи, ее родители, бабушка Марфа и дедушка-протопоп, равно как и более далекие родственники по их «линиям», были похоронены в московском Богоявленском монастыре. Но в Троице-Сергиевом монастыре покоились останки князей Пронских (Горский 1890: 98), и Авдотья выразила желание лежать рядом с любимым человеком, с покойным мужем.
~ м: кн. Юрий Иванович Шемякин Пронский
Литература: Пушкарева Н. Л. Опыт микроанализа эмоциональных отношений семьи «новых русских» XVI столетия.
XIX генерація от Рюрика.
КН. МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1565)
в 1565 помещ. 1С:Вас.Ив. /ин.ВАССИАН/
КН. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1565)
в 1565 помещ. 2С:Вас.Ив. /ин.ВАССИАН/
КН. АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1565)
в 1565 помещ. 3С:Вас.Ив. /ин.ВАССИАН/
КН. ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ВЛАСОВ МЕЗЕЦКИЙ (1589,–1608/1628)
дворов.сын-боярск. помещ.-Юрьев‑у. 1С:Дм.Ив. :Мария.сын боярский, голова, воевода по Юрьеву в 1588/89, 1607/08 гг. Выборный дворянин из Юрьева Польского с окладом в 400 четвертей в 1588/89 гг., в начале 1590‑х гг., в 1602/03 гг. (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 233, 273, 348).
∞, Марфа [.....] [.....] (1628, 1636)
КН. ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1590?)
помещ. 2С:Дм.Ив. :Мария.
КН. ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ, ИН. ДАВИД (1588, † 1628,† Боровск. Пафнутьев.м‑рь)
боярин(1610,-1628) окольничий(1608‑,1617) моск.жилец.(1589) стольник(1607) боярин(1610–1628) воев.Новг.(1620–1622) С:Ив.Ив. :Феодосия.Дм. ОХЛЯБИНИНА
~Матрона Нкфр. 1627 1628. 07. 03+до Д:Нкфр. БЕЗОБРАЗОВ 1628
~Стефанида Анд. 1628 Д:Анд. БЕЗОБРАЗОВ
моск. гос. и воен. деятель, дипломат, воевода, стольник 1598, кравчий 1599, казначей 1607, окольничий 1610, боярин с 1617.Ж в 1588/89 г.; кравчий в 1596/97 1599/1600 гг.; С. в 1598/99 1606/07 гг.; кравчий в 1605/06 (Л.I); О в 1607 1617 гг.; Б в 1617 1628 гг.
Происходил из рода князей Мезецких, представителей черниговских Рюриковичей, сын князя Ивана Ивановича Семёновича Мезецко́го. Кн. Даніилъ Ивановичъ въ 1628 г. іюля 3, написалъ духовное завѣщаніе въ которомъ называете себя правнукомъ кн. Семена
Романовича, внукомъ Ивана Семеновича и сыномъ кн. Ивана Ивановича М. мать свою Ѳедосьей, сестрой кн. Михаила Дмитріевича Охлябинина, упоминает братьевъ своихъ: Никиту Михайловича, съ женой
Ульяной Петровной, Романа Михайловича съ женой Марфой Яковлевной, Михаила Михайловича съ женой Ульяной Андреевной, Дмитрія
Дмитріевича съ дѣтьми Ѳомой и Андреемъ и съ женой Ѳомы Дмитріевича Авдотьей Ивановной, первую жену свою Стефаниду Андреевну
Безобразову и вторую — Матрену Никифоровну, племянницу кж. Марію
Никитишну, невѣстку свою Дарью Васильевну жену кн. Григорья
Васильевича М., невѣстку Соломониду — жену кн. Ивана Юрьевича
М. и внука своего кн. Григорья Васильевича М. (Изв. II, 72—84].
Упоминается как жилец в 1588/89. В 1597 занимал пост кравчего, в правление Бориса Фёдоровича Годунова служил в чине стольника и привлекался к участию в ответственных мероприятиях церемониального характера: в 1599 в должности кравчего присутствовал на приёме прибывшего в Москву швед. королевича Густава; в нач. 1605 отправлен с наградами к воеводам, одержавшим победу над Лжедмитрием I в битве при Добрыничах. При Лжедмитрии I в течение непродолжит. времени находился на воеводстве в Белгороде (1605), но вскоре отозван в Москву. Летом 1606, во время Болотникова восстания 1606-07, был послан остановить отступавших из-под Орла царских воевод, осенью того же года участвовал в боевых действиях против повстанцев под Каширой, Можайском и Вязьмой, затем – в обороне Москвы от отрядов И. И. Болотникова. После отступления восставших Данило Мезецкой был назначен вторым воеводой передового полка в походе первой русской рати под командованием князя И. И. Шуйского под Калугу. Вскоре царь Василий Шуйский отправил к Калуге второе войско под предводительством князей Фёдора Ивановича Мстиславского и Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Иван Болотников и Лжепетр отправили из Тулы в поход на Калугу повстанческое войско. Царские воеводы выслали против мятежников войско, состоящее из трех полков. Князь Данило Мезецкой командовал передовым полком. В феврале 1607 г. в сражении на р. Вырке, под Калугой, царские воеводы разгромили болотниковцев. В этой битве Д. И. Мезецкой был ранен, и новым воеводой передового полка был назначен боярин Михаил Александрович Нагой. Затем Д. И. Мезецкой участвовал в походе царя Василия Шуйского на Тулу, из которой был отправлен на Крапивну против мятежников. Царские воеводы Данило Иванович Мезецкой и Фёдор Исакович Леонтьев взяли города Крапивну и Одоев, оставив в них гарнизоны. В кон. 1607 назначен казначеем, а в 1608 пожалован в окольничие.
Своё положение и влияние М. сохранил и после падения правительства Василия Ивановича Шуйского: В 1608 году окольничий Д. И. Мезецкой — второй дворовый воевода при обороне Москвы от войск Лжедмитрия II, затем с царским полком стоял до весны у Никитских ворот столицы. С весны воеводы князья Фёдор Иванович Мстиславский и Данило Иванович Мезецкой был вторым воеводой царского полка у Никитских ворот. В 1608 году окольничий князь Данило Иванович Мезецкой был включен в состав посольства князя М. В. Скопина-Шуйского, отправленного в Новгород для сбора ополчения и переговоров со шведским королём о военной помощи. Затем в качестве воеводы Д. И. Мезецкой вступил в войско под командованием Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Весной 1610 года Данило Мезецкой вместе с князем Андреем Васильевичем Голицыным и Григорием Леонтьевичем Валуевым был отправлен из Москвы на Можайск. В июне того же 1610 года был одним из воевод в неудачной Клушинской битве.
После свержения царя Василия Шуйского окольничий Данило Мезецкой был одним из бояр, принимавших решение о призвании на вакантный русский трон польского королевича Владислава Вазы. В авг. 1610 участвовал в переговорах с польским гетманом С. Жолкевским относительно избрания на рус. престол королевича Владислава, а затем в сентябре 1610 года окольничий князь Данило Иванович Мезецкой вошел в состав боярского посольства под руководством князя Василия Васильевича Голицына и ростовского митрополита Филарета Романова, отправленного из Москвы под Смоленск. Во время длительных переговоров с польским королём Сигизмундом Вазой князь Даниил Мезецкой согласился с ним сотрудничать и фактически предал остальных членов русской делегации. В апр. 1611 вместе с др. членами посольства взят под стражу за отказ содействовать капитуляции осаждённого поляками Смоленска. В нояб. 1612 М. был направлен польск. королём в Москву с целью склонить и ополченцев, освободивших столицу, провозгласить царём королевича Владислава, однако эта миссия не была допущена в столицу. На обратном пути М. совершил побег и прибыл в Москву в расположение второго ополчения и присоединился к нему.
В 1613 году князь Данило Иванович Мезецкой участвовал в Земском соборе, подписал соборную грамоту об избрании на царский престол Михаила Фёдоровича Романова. Д. И. Мезецкой вошел в состав правительства нового царя Михаила Фёдоровича. Осенью 1613, вместе с кн. Д. Т. Трубецким руководил рус. войсками в походе на оккупированный шведами Новгород, но потерпел поражение под Бронницами (близ Торжка).В конце 1616 года боярин Фёдор Иванович Шереметев и окольничий Данило Иванович Мезецкой во главе русской делегации были отправлены на переговоры со шведами по поводу возвращения Новгорода и заключения мирного договора. В декабре русские и шведские послы встретились в деревне Столбово, под Тихвином, где начали мирные переговоры. В феврале 1617 года был заключен так называемый Столбовский мир, завершивший русско-шведскую войну (1610—1617 гг.). В награду князь Д. И. Мезецкой был пожалован царем Михаилом Фёдоровичем в бояре. М. принял у швед. оккупац. войск Новгород; 1‑й воевода в Новгороде (1617–18, 1620–1622). В нач. 1618 включён в состав делегации, которая должна была вступить в мирные переговоры с поляками, однако переговоры не состоялись. В окт. 1618 участвовал в обороне Москвы от войск королевича Владислава. 2‑й посол на рус.-польск. переговорах, завершившихся заключением Деулинского перемирия 1618. В 1619 руководил разменом пленных на рус.-польск. границе и сопровождал в Москву освобождённого из плена отца царя Михаила Фёдоровича, наречённого патриарха Филарета. 1‑й судья Сыскного (1618/19) и Пушкарского (1622/23–1626/27) приказов и Новой четверти (1622/23–28). В том же 1628 году боярин князь Данило Иванович Мезецкой скончался, приняв перед смертью монашеский постриг под именем Давида.
Владел поместьями в Козельском и Мещовском уездах. Перед смертью принял постриг с именем Давид. Даниил Иванович Мезецкий 3 июля 1626 г. составил духовное завещание. Просил похоронить его вместе с родителями в Боровске в Пафнутьевом Боровском монастыре. Упомянут его вклад в монастырь в 600 руб. Мать князя Данилы княгиня Феодосья похоронена в Калязином монастыре. Упомянута подмосковная вотчина князя Данилы деревня Копытово на р. Копытовке, сельцо Мышкино и приселок Смельцово в Ярославском уезде (даны ему за московское осадное сидение) и другие жалованные вотчины. Выделяется среди прочих старинная вотчина сельцо Введенское с деревнями и пустошами (430 четвертей) в Можайском уезде, которой царь Федор Иванович пожаловал вместо села Варсобино с деревнями в Можайском уезде, взятой у его отца в опричнину. Также за ним вотчина его дяди, родного брата матери князя Михаила Дмитриевича Охлябинина, сельцо Кунино с деревнями и пустошами в Переславском уезде и вероятно тоже в Переславском уезде сельцо Поимаш с пустошами, данное в приданое князю Ивану Никитичу Приимкову за его сестрою Варварой, дочерью Ивана Петровича Охлябинина, и выкупленное затем князем Данилой у князя Ивана Приимкова. За князем Данилой и его женой Матреной вотчина в Боровском уезде сельцо Дятлово Пятницкое (Бутышино) с пустошью и сельцо Холм с пустошами, купленные у тетки жены у Овдотьи, дочери Андрея Дятлова и жены Якова Великого. Эти сельца приобрел тесть князя Данилы Андрей Васильевич Безобразов и вероятно дал в качестве приданого за дочерью Стефанидой. Сельца в Боровском уезде завещаются Пафнутьеву Боровском монастырю, но предусмотрен выкуп со стороны брата Стефаниды Тимофея Никифророва сына Безобразова за 200 руб. Упомянут двор князя Данилы в Москве на Дмитровке (Татищев Ю.В. Род князей Мезецких // Известия Русского генеалогического общества. Вып. 2. Отд. 1. СПб., 1903. С. 52, 56, 72–84).
В первой трети столетия в центре Большой улицы в Шуе стоял двор бездетного боярина, князя, крупного земельного магната Даниила Ивановича Мезецкого33 (уже в 1629 г. его двором владел другой Мезецкий – последний в роде, помещик Григорий Пьяный сын Василия Большого (БЕ. 1896. Т. XVIIIа. С. 941; Шватченко, 1990. С. 250; 1996. С. 114, 121; Шумаков, 2002. С. 22–23, 67–68; КШ. 1629. Л. 36; Славянская энциклопедия…, 2004а. С. 724)).
Землевладение. В земляном списке 1613 г. за ним числится 791 четв. старых и выслуженных, за московское осадное сидение, вотчин и 1460 четв. старых поместий113 Д. И. Мезецкому принадлежала старинная вотчина в Можайском у. (с. Новое Введенское в Михайловском ст., 437 четв.), которую он получил при царе Федоре Ивановиче в компенсацию за вотчину, конфискованную у его отца в годы опричнины.114 В Кистемском ст. Переславского у. за кн. Д. И. Мезецким значились старинная вотчина, которую ему отказал его дядя, родной брат матери кн. Михаил Дмитриевич Охлябинин (д., что было сц. Кунино с деревнями), а также купленная им в 1615/16 г. у кн. И. Н. Приимкова-Ростовского его приданая вотчина, данная ему вдовой кн. Ивана Петровича Охлябинина кнг. Марьей за своей дочерью Варварой, «сестрой» Д. И. Мезецкого (сц. Поимаш с пустошами); всего 834 четв.115 Согласно жалованной грамоте царя Михаила Федоровича от 30 октября 1623 г., вотчина, д. Кунино с деревнями была дана Д. И. Мезецкому его дядей по матери кн. М. Д. Охлябининым «тому лет с пятдесят».116 Д. И. Мезецкой владел придаными вотчинами в Щитовском ст. Боровского у. (сц. Дятлово-Пятницкое, данное ему тестем Андреем Васильевичем Безобразовым за дочерью Степанидой (Матреной), 405 четв.) и в Бохове ст. Московского у. (с. Амирево, 37 четв., которое значилось по писцовым книгам 1584–1586 гг. в вотчине за Андреем Васильевичем, Яковом и Захарием Ивановичами Безобразовыми; в писцовой книге 1623–1624 гг. упоминается как «старинная» вотчина Д. И. Мезецкого).117 Известна вотчина Д. И. Мезецкого в Рузском у. (в Замошской вол. пуст., что была д. Гуслово с пустошами, 210 четв.), «что вытегал ту вотчину у боярина у Михаила Глебовича Салтыкова».118 Значительную часть вотчинных владений Д. И. Мезецкого составляли его выслуженные вотчины. За службы и московское осадное сидение при царе Василии он был пожалован с. Мышкино с приселком Сланцово (Слепцово), погостом Левыкино, деревнями, починками и пустошами (по писцовой книге 811 четв. и 110 четв. примерной земли).119 За службы и московское осадное сидение «в королевичев приход» Д. И. Мезецкой получил вотчины в Коломенском (сц. Микульское, 133 четв.),120 Рязанском (в Пониском ст. с. Константиновское, 634 четв.),121 Суздальском (в Матницком ст. сц. Щелково, 200 четв.),122 Московском (в Васильцове ст. д. Копытово, по даче 1618/19 г., 15 четв.)123 и в Галичском (в Каликинской бывшей черной вол. Парфеньевской осады, 400 четв.; «за посольскую службу с боярином Федором Ивановичем Шереметевым на съезде с литовскими послы» 1618 г.)124 у. Упоминаются поместья Д. И. Мезецкого в Московском (в Лукомском ст., 185 четв.), Козельском (Луганском ст., 282 четв.), Коломенском (в Большом Микулине ст.) и в Мещовском (в Сухиницком ст., 361 четв.) у.125 После смерти Д. И. Мезецкого, не оставившего потомства, его вотчины, согласно духовной от 3 июля 1628 г., перешли к родственникам — троюродным братьям Д. И. Мезецкого, кн. Никите и Роману Михайловичу Мезецким, достались его старинные (в Можайском и Переславском у.) и выслуженные (в Ярославском, Рязанском и Коломенском у.); Фоме и Андрею Дмитриевичам Мезецким была завещана выслуженная вотчина в Галичском у.; Григорию Васильевиу Мезецкому — выслуженная вотчина в Суздальском у.; приданая вотчина в Боровском у. завещана в Боровский Пафнутьев м‑рь с правом выкупа ее родственниками жены Безобразовыми; выслуженная вотчина в Московском у. была дана душеприказчику Д. И. Мезецкого боярину кн. И. Б. Черкасскому.126 Приданая вотчина Д. И. Мезецкого с. Амирево Бохова ст. Московского у. по духовной его жены Матроны (кнг. Матрена Андреевна Мезецкая ум. в ноябре 1627 г.127) была дана им ее «брату» Тимофею Никифоровичу Безобразову.128
∞, 1v, Степанида Андреевна Безобразова, кр. Матрена, дочь Андрея Васильевича Безобразова († XI.1627)
Лит.: Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946;Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг.). СПб., 1992; Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху Смуты. М., 2003. Т. 1–2.; Морозова Л. Е. «История России, Смутное время», Москва, Издательство «Астрель», 2011 г. ISBN 978–5‑271–37315‑2, ст. 422—1423
КН. НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1598,† 1651/1652)
моск.двн.(1639) стольник(1606) воев.Астрахань(1640–1642) воев.Псков(1630–1632) В 1627/49 судья Пушкарского приказа 1С:Мих.Вас.
Ст в 1598 г.; С. в 1598/99 – 1616 гг.; М в 1616/17? (1618/19) 1645 гг.
дворянин московский 1622, воевода.
В 1646 г. в приданое за Марией Семеновной Давыдоваой, выходящей за Р.М. Стрешневадана ее дедом, князем Никитой Михайловичем Мезецким, вотчина – село Ново-Введенское (Введенское), что была деревня Селиваново, на р. Шане, с деревнями Рябиково, Озарово, Зубарево, Холмино, починком Клепиковым, пустошами Атанки, Орлец, Юрково, Сергеево и др. Можайского у. (Власьев Г.А. Т. 1. Ч. 2. С. 22). 04.05.1648 г. Родион Матвеевич Стрешнев купил у князя Никиты Михайловича Мезецкого вотчину его брата, боярина князя Данилы Ивановича Мезецкого – жеребей села Микулинского в Большом Микулине стане Коломенского у. (Записные вотчинные книги. С. 1251).
В боярском списке 1651/52 (7160) г. упоминается с пометой «бол[ен] и умре».129 Н. М. Мезецкой был последним представителем рода кн. Мезецких. После его смерти род пресекся.
За кн. Никитой Михайловичем Мезецким в земляном списке 1613 г. числилось 195 четв. старых вотчин, 275 четв. старого поместья в Серпейске и «новые дачи, что пожаловал государь на Вологде из дворцовых сел 400 чети».130 Владел старинной отцовской вотчиной в Рузском у. (пуст., что было сц. Евнево в Локнашском ст., 205 четв.),131 выслуженной вотчиной за московское осадное сидение при царе Василии в Раменском ст. Дмитровского у. (2/3 д. Граворонова, 140 четв.; часть вотчины была, очевидно, отписана на государя и оказалась в поместье за Константином Михайловичем Кайсаровым),132 придаными, полученными от тестя Петра Ивановича Карамышева, вотчинами в Староволоцком ст. Волоколамского у. (сц. Ивановское на р. Ламе, 476 четв.) и в Сестринском ст. Московского у. (?)133 и поместьями в Брянском (167 четв.), Вологодском (420 четв.), Дмитровском (126 четв.) и Пошехонском (66 четв.) у.134 Известно, что Н. М. Мезецкой купил вотчину из своего поместья в Воздвиженской вол. Вологодского у.135 После смерти кн. Д. И. Мезецкого братьям Н. М. и Р. М. Мезецким достались его вотчины в Можайском, Переславском, Ярославском, Рязанском и Коломенском у.136 В 1642 г. Н. М. Мезецкой получил часть вотчины своего «племянника» кн. Григория Васильевича Мезецкого (ум. около 1631/32 г.), бывшей прежде за боярином Д. И. Мезецким в Мат- нинском ст. Суздальского у. (половину сц. Щелково с деревнями; другая половина вотчины была дана, как мы видели, Ф. Д. Мезецкому).137
В 1632/33 и 1638 гг. Н. М. и Р. М. Мезецкие продали доставшуюся им от Д. И. Мезецкого рязанскую вотчину (с. Константиновское в Пониском ст.) Пимину Матвеевичу Юшкову и кн. Семену Федоровичу Волконскому.138 В 1640 г. Н. М. Мезецкой продал Дорофею Семеновичу Пустынникову свою старинную вотчину в Локнашском ст. Рузского у.139 В 1640/41 г., Н. М. Мезецкой выкупил из Пафнутьева Боровского м‑ря вкладную вотчину своего брата Романа — его долю с. Новое Введенское в Можайском у.140 В начале 1640‑х гг., как говорилось выше, кн. Сицкие добились отдачи им ярославской вотчины с. Мышкино, принадлежавшей перед этим кн. Н. М. и Р. М. Мезецким.141 16 августа 1646 г. по рядной записи кн. Н. М. Мезецкой дал в приданое Родиону Матвеевичу Стрешневу за своей внучкой (дочерью своей дочери Марии Никитичны?) Марией Семеновой дочерью Давыдова свои вотчины в Суздальском (половину сц. Щелково), Переславском (половину сц. Поймаш), Можайском (сц. Новое Введенское) у., бывшие прежде за Д. И. Мезецким, а также свою выслуженную вотчину в Дмитровском у. (д. Гравороново) и купленную им из поместья вотчину в Воздвиженской вол. Вологодского у. (с. Лаптево с деревнями и пустошами).142 В 1648 г. Н. М. Мезецкой продал Р. М. Стрешневу свою коломенскую вотчину (жеребей с. Микульского в Большом Микулине ст.).143 Данная зятю Р. М. Стрешневу родовая вотчина в Можайском у. на некоторое время вновь перешла к Н. М. Мезецкому, который в 1651 г. продал ее кнг. Пелагее Григорьевне Волконской.144
∞, Ульяна Петровна Карамышева (1628,-1652), дочь Петра Ивановича Карамышева
КН. РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (1604, ум. 12.05.1638)
2С:Мих.Вас. Жилец в 1604 г.; стольник в 1616,1618 гг.; дворянин московский (1624–1638)
Кроме родовых имений князья Н.М. и Р.М.Мезецкие получили крупные выслуженые вотчины за осадные сидения в Москве в 1608–1610 и 1618 гг. в Вологодском, Дмитровском и Коломенском уездах.
Кн. Р.М. Мезецкому принадлежала старинная родовая вотчина Мезецких, бывшая прежде за кн. Юрием Ивановичем Шапкиным Мезецким, в Стародубском ст. Суздальского у. треть с. Васильевское-Ивановское, которую он выкупил по духовному завещанию своего «внука» кн. Гр. В. Мезецкого 1633 г. у его бабки кнг. Соломониды Петровны, вдовы кн. Ивана Юрьевича Шапкина Мезецкого (121 четв.; 2/3 села находилась во владении за кнг. Соломонидой и ее дочерью Анной, вдовой Петра Ивановича Внукова).145 За московское осадное сидение «в королевичев приход» Р. М. Мезецкой получил вотчину в Ухтюжской вол. Вологодского у. (225 четв.).146 В марте 1633 г. Р. М. Мезецкой приобрел по закладной стряпчего Хлебного дворца Ивана Степановича Елизарова его выслуженную вотчину в Раменском ст. Дмитровского у.147 Упоминаются его поместья в Серпейском и Вологодском у.148 После смерти Д. И. Мезецкого, не оставившего потомства, его вотчины, согласно духовной от 3 июля 1628 г., братьям Н. М. и Р. М. Мезецким достались его вотчины в Можайском, Переславском, Ярославском, Рязанском и Коломенском у.149
В 1632/33 и 1638 гг. Н. М. и Р. М. Мезецкие продали доставшуюся им от Д. И. Мезецкого рязанскую вотчину (с. Константиновское в Пониском ст.) Пимину Матвеевичу Юшкову и кн. Семену Федоровичу Волконскому.150 В 1633/34 г. кн. Р. М. Мезецкой заложил Семену и Илье Северьяновым детям Давыдова свою выслуженную вотчину в Троицком ст. Вологодского у.151 После смерти Р. М. Мезецкого (ум. 12 мая 1638 г.), согласно его духовному завещанию от 26 апреля 1638 г.,152 его вотчина в Можайском у. (половина с. Введенского, доставшаяся ему после кн. Д. И. Мезецкого) переходила в Боровский Пафнутьев м‑рь с условием возможного выкупа ее родственниками, вотчина в Ярославском у. (с. Сметцкое / Слепцово?/, доставшееся после Д. И. Мезецкого) переходила к родне — кн. Фоме и Андрею Дмитриевичам Мезецким. Часть вотчин Р. М. Мезецкой завещал своей жене кнг. Марфе Яковлевне, урожд. Вельяминовой-Зерновой (вышедшей затем замуж за кн. Дмитрия Ивановича Щербатова), которая получила его купленную (закладную) вотчину в Дмитровском у., вотчину в Переславском у. (половина сц. Поймаш; бывшая купленная и приданая вотчина кн. Д. И. Мезецкого, доставшаяся затем ее мужу),1364 выкупленную вотчину мужа в Стародубском ст. Суздальского у. (треть сц. Васильевского-Ивановского). После нового замужества бездетной вдовы Р. М. Мезецкого кнг. Марфы Яковлевны (за кн. Д. И. Щербатовым) ее стародубская вотчина (треть сц. Васильевского-Ивановского) в 1642/43 г. была дана на выкуп дочери кн. Ивана Юрьевича Шапкина Мезецкого вдове Петра Ивановича Внукова Анне Ивановне с сыновьями Василием, Иваном и Никифором Петровичами Внуковыми (ЗВК. С. 1250). Также впоследствии, Марфа Яковлевна в 1650 г., отказала вотчину в Дмитровском у. кн. Алексею Нефедьевичу Щербатову.153. В 1641 г. переславскую вотчину она дала своему родному брату Семену Яковлевичу Вельяминову.154 Эта вотчина числилась за С. Я. Вельяминовым в переписных книгах второй половины XVII в. (Шватченко О. А. Вотчины (1996). С. 142). По другим данным, эта переславская вотчина была в 1648 г. записана за вдовой Д. И. Щербатова кнг. Марфой Яковлевной на основании духовной ее первого мужа, Р. М. Мезецкого (ЗВК. С. 1112).
∞, Марфа Яковлевна Вельяминова (1628), в 1641 году вотчина жены князя Романа Михайловича Мезецкого, княгини Марфы Яковлевны, в с. Поймаше Переяславль-Залесского уезда, дана брату ея родному Семену Яковлевичу Вельяминову-Зернову
КН. МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1607,–1608/28.07.03)
стольник(1607)3С:Мих.Вас.
стряпчий 1598, 1604, стольник (1606/07,1611 гг.).
∞, Ульяна Андреевна ..... (1628)
КН. ИВАН ЮРЬЕВИЧ СЛЕПОЙ (1571,–1607/28.07.03)
сын-боярск. помещ.-Владимир‑у. воев. Василегород(1602). Воевода по Владимиру в 1588/89 1604 гг.; М в 1606/07 г.
Последнее упоминание о нем относится к 1606/07 г.
Обратимся к рассмотрению второй кабалы Юрия Ивановича Шапцына. Она была обнаружена в одном из дел Владимирской губернской межевой канцелярии, которое представляет собой сравнительно поздний (1747 г.) список писцовой книги Я. П. Вельяминова и подьячего Ф. Андреева на владения Троице-Сергиева монастыря в Стародубе Ряполовском, составленной ими в 1592/93–1593/94 гг. и впоследствии опубликованной Н. В. Калачовым 27. Список писцовой книги из ГАВО имеет две особенности. Во-первых, следует отметить многочисленные разночтения между ним и другими, хранящимися в РГАДА 28 и РГБ 29, более ранними списками этого источника. Как ни странно, варианты, предлагаемые списком ГАВО, в подавляющем большинстве случаев являются более полными и органичнее вписываются в общую структуру текста 30. Во-вторых, он включает в себя [263] следующие ранее неизвестные тексты, отражающие деятельность вышеназванных писцов на территории Стародуба: писцовое описание пустошей Перхово-Пелхово и Коптевской-Юрково, находившихся в споре между Троице-Сергиевым монастырем и князем Иваном Юрьевичем Мезецким; писцовое описание деревень Тезебино и Кулаково, чья принадлежность Троице-Сергиеву монастырю не была подкреплена документально; межевое описание землям села Алексина Троице-Сергиева монастыря с землями села Васильевского князя И. Ю. Мезецкого 31. Присутствие указанных текстов в составе писцовой книги из ГАВО позволяет утверждать, что последняя, в отличие от других списков рассматриваемого источника, восходит непосредственно к черновику описания троицких вотчин, копия которого была вручена писцами монастырскому приказчику в Стародубе Ряполовском вскоре после окончания своей работы, тогда как в утвержденный впоследствии в Москве беловой вариант писцовой книги указанные материалы уже не вошли. Кстати, именно полный вариант писцового описания стародубских вотчин Троице-Сергиева монастыря 1592/93–1593/94 гг. привлекался для составления в 1598–99 гг. платежной книги обители 32. Присутствующее в платежной книге известие о передаче в 1596/97 г. спорных пустошей Перхово-Пелхово и Коптевской-Юрково князю И. Ю. Мезецкому 33 раскрывает нам причину, по которой описание этих владений не было включено в окончательную редакцию интересующей нас писцовой книги. Почему туда не попало также и описание деревень Тезебино и Кулаково, мы не знаем. Заметим лишь, что троицкие власти в конце концов все же сумели доказать правомочность своих притязаний на обладание ими (скорее всего для этих целей была привлечена жалованная данная грамота князя С. И. Хрипуна Ряполовского, по которой монастырь еще в XV в. получил деревню Тезебино) 34 и не позднее конца 20‑х – начала 30‑х гг. XVII в. добились их возвращения в состав своей латифундии 35.
Кн. Ивану Юрьевичу Шапкину Мезецкому в Стародуборяполовском уезде принадлежало с. Васильевское-Ивановское (всего 363 четв.), треть которого, по писцовой книге 1628–1630 гг., принадлежала его вдове кнг. Соломониде (владела по отказной выписи 1632/33 г.), треть — его дочери Анне, бывшей замужем за Петром Ивановичем Внуковым (владела по грамоте патриарха Филарета 1628/29 г.), а треть — упомянутому выше кн. Роману Михайловичу Мезецкому, из другой ветви рода.155 Возможно, ранее долей этой вотчины владел внук кн. И. Ю. Шапкина Григорий Васильевич Мезецкой — единственный представитель младшей ветви рода при дворе царя Михаила, умерший около 1631/32 г. После смерти Р. М. Мезецкого в 1642/43 г. вдова П. И. Внукова Анна Ивановна, дочь И. Ю. Мезецкого, вместе с детьми Иваном, Василием и Никифором выкупили долю его стародубской вотчины (ЗВК. С. 1250).
∞, СОЛОМОНИДА ПЕТРОВНА 1628 1645 С:Юр.Ив. ШАПЦЫН. :ПЕШКОВА.
27. ГАВО. Ф. 417. Оп. 3. № 10. Л. 1–59; ПКМГ. СПб., 1872. Т. 1. С. 858–872 (публикация Н. В. Калачова содержит большое количество пропусков и искажений в передаче текста)28. РГАДА. Ф. 281. Владимир. № 271/2048. Л. 169–228 (противень властей Троице-Сергиева монастыря середины 90‑х гт. XVI в.).
29. РГБ. Ф. 303/II. Кн. 608. Л. 107 об.-155 (монастырский список первой половины XVII в.); там же. Кн. 632. Л. 283–338 об. (монастырский список 70‑х гг. XVII в.).
30. Помимо оригинальных вариантов список ГАВО содержит не обнаруженное нами в других списках писцовое описание деревни Шистино, тянувшей к селу Алексину (ГАВО. Ф. 417. Оп. 3. № 10. Л. 29 об, –30). Скорее всего это не позднейшая интерполяция, поскольку данное поселение можно с большой долей уверенности отождествить с деревней Шестиново, принадлежавшей в 1538/39 г. княжне А. И. Мезецкой (АРГ АММС. № 82. С. 206), известной как вкладчица села Алексина в Троице-Ссргиев монастырь (там же. № 82. С. 202–205).
31. ГАВО. Ф. 417. Оп. 3. № 10. Л. 49–52, 52–53 об., 53 об.-55 об.
32. РГБ. Ф. 303/II. Кн. 569. Л. 70–72 об.
33. Там же. Л. 72.
34. АСЭИ. М., 1952. Т. 1. № 350. С. 256–257.
35. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11320. Ч. 2. Л. 1429–1430.
[Две кабалы князя Ю. И. Мезецкого из архива Московского Богоявленского монастыря // Русский дипломатарий, Вып. 9. М. Древлехранилище. 2003]
XX генерація от Рюрика.
КН. ФОМА ДМИТРИЕВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1606,–1649/53)
Сын Дмитрия Дмитриевича; стольник(1639,1646); воев.Мценск(-1627.10.03) воев.Рязань(-1643.09.03) вотч.-Галич‑у.,Суздаль‑у.,Юрьев‑у. 1С:Дм.Дм. ВЛАСОВ.
стряпчий 1616, стольник 1617–1629, дворянин московский с 1641, голова, воевода
Князь Мезецкий подписался в грамоте об избрании на престол Михаила Федоровича Романова. 1639–1640 гг., брянский воевода, кн. Ф.Д.Мезецкий так рьяно требовал от Вознесенского женского монастыря «посулов и поминков деньгами, медом и солодом», что Москве пришлось официально одернуть своего регионального представителя54… Вот почему больше трех лет воевода в одном городе не служил.
Упоминаются поместья Ф. Д. и А. Д. Мезецких в Вологодском, Галичском и Юрьевском у.156 Братья Ф. Д. и А. Д. Мезецкие получили вотчину за московское осадное сидение при царе Василии в Юрьев-Польском у. (2/3 с. Полозово в Сорогожском ст., 220 четв.).157 1620, за московское осадное сидение «в королевичев приход» кн. Ф. Д. Мезецкому были пожалованы вотчины из черных волостей Галичского у. (в Понизовской вол., 73 четв., и вол. Мерзлая Слободка с д. Гридино, Константиново, Федорово, Доровинка, Старово, Родишково, Белкино, Пашино, Дорок, Фомино, 67 четв.)158 По духовной 1628 г. боярин кн. Д. И. Мезецкой завещал свою выслуженную вотчину в Парфеньевской засаде Галичского у. (400 четв.) Ф. Д. и А. Д. Мезецким.159 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за кн. Ф. Д. Мезецким числилось 970 четв. вотчинной и поместной земли и 146 дворов.160 В 1642 г. Ф. Д. Мезецкой получил часть вотчины своего «племянника» кн. Григория Васильевича Мезецкого (ум. около 1631/32 г.), бывшей прежде за боярином Д. И. Мезецким в Матнинском ст. Суздальского у. (половину сц. Щелково с деревнями, 100 четв.).161 Впоследствии, 1647 г., января 3 дня, эту вотчину Ф. Д. Мезецкой продал Родиону Матвеевичу Стрешневу.162 Известно, что мать Ф. Д. и А. Д. Мезецких, вдова кн. Дм. Дм. Мезецкого кнг. Марфа, владела прожиточным поместьем в Муромском у., перешедшим затем к ее детям.163
Въ Русской родословной книгѣ, хотя и не на своемъ мѣстѣ,
т. е. однимъ колѣномъ выше чѣмъ слъдуетъ, показаны два брата съ
именемъ Ѳомы и отчествомъ Дмитріевичи, по той причинѣ, что на
граматѣ 1613 года избранія Михаила Ѳеодоровича Романова въ цари
имѣются двѣ подписи: одна стряпчимъ а другая стольникомъ кн. Ѳомой
Дмитріевичемъ Мезецкимъ. Ю. В. Татищевъ считаете это просто какой
нибудь ошибкой и потому признаете только одного кн. Ѳому Дмитріевича и какъ изъ довольно многочисленныхъ справокъ о службахъ
Ѳомы Дмитріевича нельзя усмотрѣть, чтобы дѣйствовали два отличныхъ
другъ отъ друга брата то и я принимаю, согласно съ мнѣніемъ Ю. В.
Татищева, что былъ только одинъ кн. Ѳома Дмитріевичъ и что слѣдовательно въ указанномъ документѣ скрывается какая-то ошибка.164
Ж. 1: ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА (?-1652/3);
Ж. 2: АННА ВАСИЛЬЕВНА ВОЛЫНСКАЯ (?-1653/4)
КН. АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ МЕЗЕЦКИЙ (1616,- + 12.1639)
моск.двн.(1627,1639) моск.стряпчий(1616) Ст в 1616 1618 гг.; М в 1624 1639 гг.
2С:Дм.Ив. :Мария
Упоминаются поместья Ф. Д. и А. Д. Мезецких в Вологодском, Галичском и Юрьевском у.165 Братья Ф. Д. и А. Д. Мезецкие получили вотчину за московское осадное сидение при царе Василии в Юрьев-Польском у. (2/3 с. Полозово в Сорогожском ст., 220 четв.).166 За московское осадное сидение «в королевичев приход» кн. А. Д. Мезецкому были пожалованы вотчины в Вологодском у. (в Бохтюжской вол., 160 чет.).167 По духовной 1628 г. боярин кн. Д. И. Мезецкой завещал свою выслуженную вотчину в Парфеньевской засаде Галичского у. (400 четв.) Ф. Д. и А. Д. Мезецким.168 По «сказке» 1632 г. кн. А. Д. Мезецкому принадлежали «жалованные» вотчины в Юрьев-Польском (120 четв.) и Вологодском (120 четв.) у., «отказная» («что отказал ему дядя его боярин кн. Данила Иванович Мезецкой) вотчина в Галичском у. в Парфеньевской засаде (200 четв.)) и поместья в Юрьевском и Вологодском у. (всего 210 четв.).169 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за кн. А. Д. Мезецким упоминается 46 дворов.170 Известно, что мать Ф. Д. и А. Д. Мезецких, вдова кн. Дм. Дм. Мезецкого кнг. Марфа, владела прожиточным поместьем в Муромском у., перешедшим затем к ее детям.171
Иван Дмитриевич (1630?)
помещ. 3С:Дм.Ив. :Мария.
Роман Дмитриевич (1627,1633)
помещ. 4С:Дм.Ив. :Мария.
Борис Дмитриевич (1618,1631)
помещ. 5С:Дм.Ив. :Мария.
Федор Дмитриевич
С. в 1631/32 г.
КН. МАРИЯ НИКИТИЧНА МЕЗЕЦКАЯ (–1628.07.03-до)
помещ. Д:Нкт.Мих.
Анна Никитична
~ Семен Давыдов
Роман Никитич
М в 1624 г.
КН. АНДРЕЙ НИКИТИЧ МЕЗЕЦКИЙ
Ст в 1615 г.
Василий Иванович Большой (1600?)
помещ. 1С:Ив.Юр. СЛЕПОЙ. :СОЛОМОНИЯ.
Василий Иванович Меньшой († 1607)
помещ. 2С:Ив.Юр. СЛЕПОЙ. :СОЛОМОНИЯ.
КН. АННА ИВАНОВНА МЕЗЕЦКАЯ (1628,1645)
Дочь Ивана Юрьевича Ивановича Шапкина. вдова, вотч.-Стародуб-Ряполово‑у. Д:Ив.Юр. МЕЗЕЦКИЙ.
∞, Петр Иванович Внуков.
XXI генерація от Рюрика.
КН. ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПЬЯНЫЙ (1615,1629)
С:Вас.Ив. Б.стольник(1627,1629) помещ.-Рязань‑у.(Каменск.-ст.)
Г. В. Мезецкому принадлежала приданая вотчина в Каменском ст. Рязанского у., данная ему его тестем Василием Андреевичем Измайловым за дочерью Дарьей (80 четв.) Эта вотчина перешла затем к мужу родной сестры кнг. Дарьи Васильевны Мезецкой (урожд. Измайловой) Авдотьи — кн. Степану Ивановичу Гагину Великого (РПК. Т. I. Вып. III. С. 1245; ЗВК. С. 167). В 1650 г. вдове кн. С. И. Гагина Великого кнг. Авдотье Васильевне была дана послушная грамота на вотчины ее сестры Дарьи Васильевой дочери Измайлова (приданые вотчины их отца Василия Андреевича Измайлова) в Рузском у. — с. Петровское в Сестринском ст. и пуст. (д. Завражье) в Локнашском ст. (ЗВК. С. 1319). По духовному завещанию кн. Д. И. Мезецкого 1628 г. Г. В. Мезецкой получил его выслуженную вотчину в Матницком ст. Суздальского у. (сц. Щелково, 230 четв.), которая после его смерти перешла к кнг. Соломониде Ивановой жене (Юрьевича Шапкина Мезецкого), Ф. Д. и Н. М. Мезецким.172 Упоминается старое поместье Г. В. Мезецкого в Опольском ст. Суздальского у. (жеребей с. Менчакова); другие жеребьи этого села находились в поместьях за вдовой кн. И. Ю. Шапкина Мезецкого кнг. Соломонидой и их дочерью Анной, женой П. И. Внукова.173
∞, Дарья Васильевна Измайлова (1615, 1628), дочь Василия Измайлова.
Персоны без места в росписи
Мезецкая Феогния инока кнж. (1569+после) ~к.Вас.Вл. Московский
Черновик
В 1589 г. «апреля во 18 день велел государь быть на Москве в объезде в головах по росписи, огни и корчмы вымать:
* в Кремле князю Василью Туренину;
* в Китае князю Данилу Приимкову Ростовскому;
* в Большом каменном городе князю Михаилу Васильевичю Мезецкому ;
* по слободам князю Борису Мезецкому ».
Его государеву службу можно проследить по Разрядным книгам 1475–1598 гг: в 1527 г. великий князь Василий Иванович велел быть ему с Воротынским в Одоеве; в 1536 г. во время похода казанского царя Сафа-Гирея на Русь, великий князь велел идти полкам из Мурома в Нижний Новгород, в сторожевом полку был князь Иван княж Федор сын Мезецкого ; в 1540 г. он вместе с муромскими детьми боярскими, посадскими людьми отражал набег на Муром царя Сафа-Гирея, потом встречал прибывшего в город царя; в 1544 г. в Муроме состоялся сбор воевод для похода в казанские места, среди которых был князь Иван княж Федоров сын Сухово Мезецкой ; в 1548 г. по цареву указу собирались войска: в сторожевом полку под Муромом был князь Иван княж Федоров сын Сухово-Мезецкого.11
В Дворовой тетради 50‑х гг. XVI в., в которой писаны бояре, дьяки, князья и дети боярские дворовые московской земли и приказные люди в Муроме, в первой строке князь Иван княж Федор Мезецков сын Мезецкого числится уже отставленным от службы. Здесь записаны его дети Борис и Сенька.12 Князья имели вотчинные землевладения в Дубровском стане Муромского уезда.13
В конце XVI – начале XVII вв. среди служилых людей встречается князь Михаил Мезецкой , который в 1585 г. составлял Муромские писцовые книги,14 в 1597 г. проводил дозор Муромских земель.15
Князь Михаил Романович Мезецкий
Аристократия
Князь Михаил Романович Мезецкий отъехал в Москву в августе — октябре 1492 г. ‚04, «поймав» при этом брата Семена и двоюродного брата Петра Федоровича. По русско-литовскому договору 1484 г. Мезецк оставался в «сместном» (совместном) владении Федора Сухого и Василия Кукубяки (детей Федора Андреевича Мезецкого), находившихся на литовской службе, а также Михаила Романовича и детей его двоюродного брата Ивана Федоровича Говдыревского, Василия и Федора. Князь Семен был отпущен по договору 1494 г. на московскую службу, а Петр Федорович — на литовскую ‚05. Петр и Федор Сухой Федоровичи продолжали служить Литве еще в 1498 г. В этом же году «дольницами» в Мезецке продолжали владеть и мезецкие князья на русской службе ш6.
Однако в конце 1503 г. Иван III завещал Мезецк своему сыну Дмитрию. Иван III, очевидно, из-за важности военно-стратегического положения Мезецка выменял его на с. Олексин в Старо-дубе Ряполовском, причем «суд и дань» с этого села шли в великокняжескую казну 107. Мезецкие князья были низведены с положения служилых до положения обычных княжат. Измельчавшие к середине XVI в. мезецкие князья никакой политической роли не играли ‚08. Так, Семен Романович в походе к Угре 1512 г. находился во вспомогательных войсках, приданных к большому полку, и должен был «боронить» одоевские и белевские места, если б возникла для этого надобность. На Угре в сторожевом полку он стоял и в 1513 г. Отсюда он был послан в Стародуб. Его сын Петр упоминается в разрядах только под 1512 г., а Андрей Семенович — вторым воеводой правой руки в передовой рати, направленной в 1513 г. под Смоленск . Долго, но без какого-либо успеха служили Иван, Федор и Василий Семеновичи Мезецкие.
Сын кн. Семена Иван (умер до 1539 г.) находился в 1515 г. в войсках В. С. Одоевского на Вошане вторым воеводой левой руки, а при отправлении рати на Тулу переведен вторым же в полк правой руки. В 1516 г. он у того же В. С. Одоевского на Вошане всего только третий воевода левой руки. В 1517 г. в Мещере — второй в сторожевом полку. В 1527 г. он снова в Мещере, на этот раз с кн. И. М. Воротынским, а в 1529 г. с ним же идет под Серпухов из Почапа. Его дочь вышла замуж за кн. Ю. И. Шемякина-Прон-ского «°.
Сын кн. Семена Федор появляется в разрядах впервые в 1516 г., когда он был вторым воеводой сторожевого полка в войске, направленном к Витебску. В 1519 г. он был среди воевод «в Мещере». Возможно, именно тогда и был убит в «Мещере» его старший брат Андрей. Затем Ф. С. Мезецкий с младшим братом Василием в 1529 г. стояли «на Сенкине». В конной рати, отправленной в 1530 г. под Казань, он — второй воевода сторожевого полка. В 1531 г. снова с братом Василием Федор Семенович служил в Рязани «за городом» с воеводами передового полка. Сам же кн. Василий при Р. И. Одоевском в 1532 г. служил в Серпухове, а в 1533 г. — на Белеве. В. С. Мезецкий впервые упомянут в разрядах среди воевод на Угре во время набега Мухаммед-Гирея 1521 г. Наместничал в Путивле в 1529/30, 1533/34 и в декабре 1534 г. — декабре 1535 г. В середине XVI в. Иван, Федор и Василий Мезецкие числились дворовыми детьми боярскими по Можайску «2.
У брата Семена Романовича Михаила Мезецкого было шестеро сыновей. Самого отца с сыном Андреем убили под Казанью . Старший сын Василий, очевидно, рано умер (бездетным). Младший сын Иван в 1522/23 г. купил с благословения отца и братьев Ивана Шапцы, Петра Гнуса и Семена их жеребьи с. Глумова Суздальского уезда .
Мезецкие, как мы видим, — типичные воины, для которых ратная деятельность является профессией. В ходе русско-литовских распрей они растеряли свои земли и прочных корней на Руси в изучаемое время не имели.
Есть на территории Ивановской области старинные сёла, история которых уходит в глубину веков.
Лучкино издавна относилось к Алексинской вотчине Стародубского княжества. В конце XV века, после опалы князей Ряпловских-Стародубских, эта вотчина перешла к великому князю Ивану III. В начале XVI столетия (до 1503 года) Иван III передал село Лучкино, Алексино, Василевское (Шапкино) князьям Мезецким в обмен на город Мезец (ныне город Мещовск Калужской области), важную в то время пограничную крепость.
В 1538–1539 годах по разделу между князьями Мезецкими Лучкино досталось князю Семёну Михайловичу Мезецкому , а от него перешло дочерям Федосье и Марии. Княжна Федосья Семёновна вышла замуж за князя Петра Борисовича Пожарского, а княжна Мария Семёновна – за князя Василия Ивановича Коврова.
В 1572 году, уже овдовев, княгини Пожарская и Коврова передали село Лучкино с деревнями суздальскому Спасо-Евфимьеву монастырю.
Шапкино (Савинский район Ивановской области)В первой половине XVII столетия село Шапкино было вотчиной фамилии князей Мезецких : одна треть села принадлежала князю Фоме Дмитриевичу Мезецкому и две трети села вдовой княгине Анне Ивановне Мезецкой . В 1644 году князь Фома Мезецкий свою вотчину заложил за 1500 рублей князю Ивану Андреевичу Голицыну сроком на один год. А княгиня Анна Ивановна свои две трети села в 1646 году продала Троице-Сергиеву монастырю; в конце столетия всё село принадлежало монастырю и во владении его оставалось до 1764 года.[
Мезецкий Семен Романович — князь, воевода в княжение Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича, сын удел. мезец. кн. Романа Ануреевича. В 1492 перешёл из Литвы на службу к Ивану Великому вместе с братом Михаилом Романовичем и двоюрод. братом Петром Федоровичем. В 1494 водил передовой полк к Великим Лукам против литовцев. В 1495 ходил с вел. князем к Новгороду Великому. После Ведрошской битвы (1500) прислан в помощь воеводам в большой полк. В 1501 служил наместником в Новгороде и в апреле был направлен воевать лит. волости. В 1512 прислан на р.Угру в большой полк «для посылок». В1513 на время похода рус. войска на Смоленск, стоял на Угре со сторожевым полком «береженья для», откуда его отправили к Стародубу.
Сотная писцов кн. Федора Семеновича Мезецкого и дьяка третьяка Михайлова сына Дубровина на владения Духова монастыря дд. Ялтуново, Екотово, Ерофеевское и др. в Рязанском у., отданные в нагодчину рязанским детям боярским (1552 г. октября 10)//А.В.Азовцев. К истории землевладения рязанского Духова монастыря//РД. Вып. 9‑й. С. 55–57
Мезецкий, князь Михаил Романовичь приб. служить в Москву 1493 г.
Мезецкий Семен Романович — князь, воевода в княжение Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича, сын удел. мезец. кн. Романа Ануреевича. В 1492 перешёл из Литвы на службу к Ивану Великому вместе с братом Михаилом Романовичем и двоюрод. братом Петром Федоровичем. В 1494 водил передовой полк к Великим Лукам против литовцев. В 1495 ходил с вел. князем к Новгороду Великому. После Ведрошской битвы (1500) прислан в помощь воеводам в большой полк. В 1501 служил наместником в Новгороде и в апреле был направлен воевать лит. волости. В 1512 прислан на р.Угру в большой полк «для посылок». В1513 на время похода рус. войска на Смоленск, стоял на Угре со сторожевым полком «береженья для», откуда его отправили к Стародубу.
Мезецкий, князь Иван воев. сторожевого полка левой руки сухопутной рати, шедшей на Казань 1528 г. (Едва ли не Мезецкий, князь Иван Семенович (см.)?).
Мезецкий, князь Андрей Семенович
воев. царя Василия, в походах 1508 и 1513 гг. начальств. полком правой руки, убит татарами в Мещере.
Сохранился ряд грамот, подписанных митрополитом Макарием (†1563, пам. 30 дек.) и скрепленных его печатями. 10 марта 1558, святителю была «явлена» духовная грамота «умершего князя Семена Михайловича Мезецкого«22. Среди всего имущества князь называет свои святыни: «Образ Егорей Великий, резан на камени на яшмере, резь греческая и цка золота», затем «образ резан на кости на мамонтове Дванадесят праздников, обложен басмы серебряны позолочены, да образ Пречистые, серебром обложен позолочен, пелена шита золотом да серебром, а крест золотой с мощьми и с каменьем, да две иконы, серебром обложен», а также «Крест золот с мощьми да икону складную синодой Дванадесят праздников, обложена серебром, да икону Дванадесят праздников, резан на кости на мамонтове, серебром обложена, да образ Чюдотворца Николы, серебром обложен под хрусталем». Все «послухи» подтвердили, что грамота была написана при них,
после чего святитель скрепил ее своей подписью и печатью. Подписал грамоту «митрополичь дияк Никита Парфениев». О роде завещателя, т. е. о Мезецких, А. Зимин пишет, что «это типичные воины, для которых ратная деятельность являлась профессией«23. Согласно вклада по С.М. Мезецком в Троице-Сергиев монастырь, он скончался до 16 февраля 1560 г.24.
Мезецкий, князь Борис Иванович воевода в Тетюшах, строитель крепости там 1570—1 г., строил Архангельск 1584 г., воеводств. в Астрахани 1585—6 г., в Ямах городе 1591 г.
Мезецкий, князь Василий Михайлович посол в Крым 1535 г., воев. большого полка левой руки в походе 1541 г.
Мезецкий, князь Василий Семенович в посольстве в Крым 1535 г., воевода левой руки в походе 1541 г.
Мезецкий, князь Данило Ивановичлюбимец Бориса Годунова, в 1608 г. окольничий, в 1610 г. 10 авг. договаривался под Москвою с гетм. Жолкевским и, назначен. уполномоченным для договоров о мире, заключил его и получил боярство 1618, управлял Пушкарск. приказом 1626—8, в мон. наречен. Давид, † 1639 г.Дополнение: Мезецкой, князь Данило Иванов., боярин; † 1629 г. (1639 г. опечатка).
Мезецкий, князь Иван Семеновиччто 1547 г. 4 янв. посыл. был с грамотами о привозе девиц ко двору для выбора царю невесты.
Мезецкий, князь Никита Михайловичвоев. псковский 1631—2 г., 1639—41 астраханский, 1627—8 г. сидел в Пушкарском приказе.
Мезецкий, князь Фома Дмитриевичвоевода брянский 1638—39 г.
Мезецкий Василий Семенович — князь, воевода в правление Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича, сын кн. С. Р. Мезецкого. В 1529 ‑третий воевода «на Сенкине (броде)». В 1531 — второй воевода в передовом полку в Рязани. В 1532 послан в Серпухов. В 1533) прислан пятым воеводой в Белев и стоял в охранении на р. Бобрике. В 1534 — второй воевода в Путивле. В 1535 участвовал в посольстве к Крым. хану. С 1540 служил воеводой полка лев. руки под Коломной, а в 1541, когда Крым. хан Сахиб-Гирей приходил на Оку, прислан был из Коломны к Белёву с полком лев. руки 2‑м воеводой. В 1547 второй воевода полка лев. руки под Каширой. В 1548 ходил из Нижнего Новгорода к Казани с полком лев. руки .г‑м воеводой. В 1551 встречал астрахан. хана Дервиш-Али и сопровождал его в поездке в Москву. В1552 послан из Мурома к Казани со сторожевым полком вторым воеводой. В 1553 отправлен на год третьим воеводой в Свияжск. В 1555 — второй воевода полка лев. руки в Кашире.
Мезецкий Данила Иванович – князь. Пожалован чином окольничего при В. Шуйском, при нем был воеводой, выполнял дипломатические поручения. В составе “великого посольства” ездил на переговоры под Смоленск, а затем вместе с Филаретом, В. Голицыным и другими был отослан в Польшу. Согласившись идти с Сигизмундом III в 1612 г. в поход на Москву, был отправлен туда для переговоров с боярами о «принятии» Владислава на царство. Возвращаясь после неудачных переговоров, Мезецкий бежал в Москву к боярам. Участвовал в избрании М.Ф. Романова на царство. Осенью 1613 г. отправлен с князем Д. Трубецким освобождать Новгород. Возглавлял группу русских представителей на дедеринских и столбовских переговорах, за что был пожалован боярством. Осенью 1618 г. принял участие в заключении Деулинского перемирия. И.К.
Документы и акты
ОТПИСЬ КН. Ф. С. МЕЗЕЦКОГО И ДЬЯКА Д. ГОРИНА ИВАНУ IV С ИЗЛОЖЕНИЕМ ХОДА СМОТРА НЕВЕСТ В РОСТОВЕ И РОСТОВСКОМ УЕЗДЕ
Около 31 декабря 1546 г.
Государю великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии [холопи] твои Федорец Мезетцкой да Митька Горин челом бьют. Ве[лено], государь, нам, приехав в Ростов свои 46 государевы грамоты роз[ослать] в Ростовской уезд ко князем и к детем боярским, [а на]завтрее, государь, велел еси розослати нам свои грамоты в Ростовской уезд. И мы, государь, по твоему государеву наказу твои государевы грамоты в Ростовской уезд ко князем и к детем боярским розослали, а назавтрее, государь, в Ростовской ж уезд розослали есмя свои грамоты по твоему ж государеву наказу. И которых есмя, государь, розсыльщиков с твоими государевыми грамотами и своими грамотами посылали, и те, государь, розсылыцики все к нам в Ростов съехались. И после того есмя, государь, жили в Ростове неделю, и к нам, государь, из Ростовского уезду не бывал никаков человек. А сказали, государь, нам — у князя у Петра да у князя у Ивана у Яновых их дочери. И у тех есмя, государь, смотрили. Да и у владычних есмя, государь, детей боярских и у городцких людей смотрили ж. И велел еси, государь, из Ростова мне, холопу своему Федорцу, отпустити к себе на Москву диака своего Дмитрся Горина. И мне, государь, холопу твоему государеву, диака твоего [119] из Ростова отпустити было к тебе, ко государю не с чем. А нынеча есмя, государь, по твоему государеву наказу поехали в Ярославль.
На обороте вверху: — [Г]рамоты присыльные о девках; в середине — Государю великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии; Лета 7055 декабря 31 д[ень] з Доможиром с Витовтовым.
ЦГАДА, ф. 135, отд. IV, рубр. II, № 5, л. 55.
Подлинник.
№ 7
ОТПИСЬ КН. И. С. МЕЗЕЦКОГО И ДЬЯКА Г. ЩЕНКА БЕЛОГО О ХОДЕ СМОТРА НЕВЕСТ В ВЯЗЬМЕ И ВЯЗЕМСКОМ УЕЗДЕ
Около 2 января 1547 г,
Государю великому князю Ивану Васильевичи) всеа Русии холопи твои Иванец Мезетцкой да Щенок челом бьют. Послал еси, государь, нас в Вязьму, и мы, государь, приехав в Вязьму, твою государеву грамоту послали в Вяземской уезд князем и детем боярским в станы и в волости, да и свои есмя, государь, грамоты по твоему государеву слову послали во все станы и в волости ко князем и детем боярским. И мы, государь, живем в Вязьме две недели, а ни один князь или сын боярской сами у нас не бывали и дочерей своих к нам не везут. А у городцких, государь, людей дочерей таковских нет, люди все молоды, не дородны. А смотрили есмя, государь, дочери у князя Василья у княж Иванова сына Гундорова. И какова, государь, княжна рожеем и леты — и мы, государь, к тебе послали тому список за своими печатьми с подьячим с Устюгом. А сами есмя, государь, поехали в Дорогобуж генваря в 2 день.
На обороте: Государю великому князю Ивану Васильевичи) всея Русии.
ЦГАДА, ф. 135, отд. IV, рубр. II, № 5, л. 56.
Подлинник.
№ 8
ОТПИСЬ О СМОТРЕ КНЯЖНЫ А. В. ГУНДОРОВОЙ, ДОЧЕРИ КН. В. И. ГУНДОРОВА
Около 2 января 1547 г.
По государя великого князя Ивана Васильевича всеа Русии приказу в Вязьме князь Иван Мезетцкой да дворцовой дияк Щенок смотрили у князя Василья у княж Иванова сына Гундорова дочь его. Княжна Овдотья, а лет ей 12, телом ровна, ни тонка, ни толста, очи находили на черно, нос по лицу не долог, волосы темнорусы. А про болезнь князь Василей сказал, что дочь его Овдотья была в ребячестве огновою больна, а нынече дал бог болезни нет.А мать ее была княгини Фетинья Григорьева дочь Полуехтовича Бутурлина. А сестры ее родные Стефанида за Горяином за Проко 2000 фьевым сыном Дементьева. А другая сестра ее Огрофена за Офонасьем за Ондреевым сыном Годунова. А братья ее ‑князь Иван, князь Давыд, князь Федор. А мачеха у ней княгини Орина княж Семенова дочь Звенигородского. А братья у мачехи — князь Иван, да князь Федор, да князь Голова княж Семеновы дети Звенигородцкого.
А сам князь Василей ношкою болен от Николина дни от осеннего от нынешнего. А иного недугу и болезни в отце и в матери не бывало.
На обороте: Сесь список дати государю великому князю Ивану Васильевичю всеа Русин.
УКАЗНАЯ ГРАМОТА ИВАНА IV В ВЯЗЬМУ И ДОРОГОБУЖ КНЯЗЬЯМ И ДЕТЯМ БОЯРСКИМ ДВОРОВЫМ И ГОРОДОВЫМ С ПОВТОРНЫМ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОБ ИХ ПРИЕЗДЕ С ДОЧЕРЬМИ ДЛЯ СМТРА НЕВЕСТ, ПОД УГРОЗОЙ ОПАЛЫ
4 января 1547 г.
От великого князя Ивана Васильеви[ча] всеа Русии в Вязьму и в Дорогобуж князем и д[е]тем боярским дворовым и городовым. Писал к нам князь Иван Семенов [ич] Мезецкой да дворцовой дияк Гаврил [о] Щенок, что к вам послали наши грамо [ты] да и свои грамоты к вам посылали по нашем [у слову], что[бы] есте к ним ехали з дочерьми своими, а велел есми им смотрити у вас дочерей себе невесты 49. И вы дей к ним не едете и дочерей своих не везете, а наших грамот не слушаете. И вы то чините не гораздо, что наших грамот не слушаете. И вы б однолично часа того поехали з дочерьми своими ко князю Ивану Семеновичи Мезецкому да к дворцовому дияку к Гаврилу к Щенку. А которой вас к ним з дочерьми своими часа того не поедет — и тому от меня быти в великой опале и в казни. А грамоту посылайте меж себя сами, не издержав ни часу. Писана на Москве лета 7055 генваря 4.
ЦГАДА, ф. 135, отд. IV, рубр. II, № 5, л. 5.
Приказной черновик.
№ 11
УКАЗНАЯ ГРАМОТА ИВАНА IV КН. И. С. МЕЗЕЦКОМУ И ДЬЯКУ Г. БЕЛОМУ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ О РАССЫЛКЕ “ДРУГИХ” ГРАМОТ КНЯЗЬЯМ И ДЕТЯМ БОЯРСКИМ С ТРЕБОВАНИЕМ ИХ ПРИЕЗДА С ДОЧЕРЬМИ ДЛЯ СМОТРА НЕВЕСТ, ПОД УГРОЗОЙ ОПАЛЫ
4 января 1547 г.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Русии князю Ивану Семеновичю Мезецкому да дво[р] новому дияку Гаврилу Васильеву. Писали есте к нам, что есте наши грамоты в Вязьме и в Дорого [б] уже ко князем и к детем боярским розослали да и свои грамоты к ним по нашему слову посылали, чтобы к вам з дочерьми своими ехали. И князи и де 2000 ти боярские к вам з дочерьми своими не едут, а наших грамот не слушают. И мы к ним послали другие свои грамоты с [опа]лою, а велели им и з дочерьми своими к вам ехати часа того. И вы б к ним наши грамоты розослали часа того, да и от себя грамоты п[о]слали по нашему слову часа того, а велел[и] и к себе 50 ехати и дело б есте наше делали по нашему наказу. Писана на Москве лета 7055 генваря 4.
На обороте вверху: Генваря 4 з Гавриловна подьячим с Уст[югом] с Архипом.
ЦГАДА, ф. 135, отд. IV, рубр. II, № 5, л. 6.
Среди кредиторов московской знати мы встречаем любо
пытную фигуру Благовещенского протопопа Василия . В своем
духовном завещании он называе т своими должниками :
к н . Михаила Васильевича Вислого (180 руб.), кн. Ивана Дани
ловича Пенков а (1200 р.), кн . Ивана Михайловича Кубенског о
(50 р.), кн . Ивана Шапк у и Семена Мезецких (70 р.), кн . Миха
ила Бабича (70 р.), кн. Ивана Михайловича Воротынского
(20 р.), кн . Ивана Ивановича Барабашина (40 р.), кн . Федора
Васильевича Лопат у (50 р.), кн. Ивана Мезецкого (200 р,) .
Кн. Иван Мезецкий был жена т на дочери этого протопопа .
Своего зят я протопоп вспоминает в своем завещании: «А зят ь
мой, княз ь Иван, жил у меня во дворе 13 лет, ел-пил мое,
а служил зят ь мой государю все моею подмогою». Жена про
топопа в своем завещании прибавляе т некоторые интересные
подробности. Оказывается , протопоп, очевидно пользуяс ь тем,
что князь я Мезецкие нуждалис ь в деньгах , купи л у них землю,
д а в за нее 500 руб . «А что есмя , — прибавляе т завещательница,—
давали зятю своему приданного и в ссуд у деньги и плать я и
кони, и то зят ь наш прослужил на царской службе »
5
. Кн . Иван
Мезецкий прожил приданое своей жены, деньги от продажи
своих земель и еще наделал много долгов .
Ростовщический капитал по отношению к разоряющейс я
знати сыграл роковую роль
№ 1
1558/59 г. – Закладная кабала кн. Юрия Ивановича Шапкина Мезецкого Московскому Богоявленскому м‑рю на мельницу на р. Шижехте в Стародубе Ряполовском в 40 рублях.
(Сведения о заимодавце, величине ссуды и объекте залога содержит заголовок акта, писанный почерком XX в. и помещенный перед его текстом на отдельном ненумерованном листе: 1559. Заемная запись князя Юрия Мезецкова Шапкина. (Занял деньги 40 р. у богоявленских старцев под залог мельницы). Местонахождение мельницы уточнено при анализе кабалы (см. выше).)
...и 1 купчая грамота без выкупа.
А на то послуси: Дмитрей Васильев сын дьяк, балахонъской городовой приказщик, да Сава 2 Власиев сын Сротькин 3балахонец, губной староста, да Иван Федоров сын 4 Попов, да Михайло Семенов сын Дуряева 5, да Миня Стефанов сын Протопопов, да Семен Михайлов сын Ординец.
А кабалу писал Бориско на государя своегово 6 князь Юрья Ивановича Мезецково лета 7000 шестьдесят седмаго.
Послух к сей кабале Дмитрей Васильев сын руку приписал.
А назади у кабалы пишет:
Князь Юрьи денги занял, руку приложил.
Послух Сава Власьев руку приложил.
Послух Миня Стефановов 6 руку приложил.
Послух Семен руку приложил Дюряев.
Послух Ивашко Федоров сын руку приложил.
Послух Михайла Семонав6 сын Дюряев руку приложил.
ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. № 34. Л. 7. Список XVII в.
Публ.: Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника. Акты X‑XVI вв. М., 1996. С. 201, 202 (без атрибутации акта).
№ 2Ок. 1560 г. февраля 21. – Закладная кабала кн. Юрия Иванова сына Шапкина Мезецкого иг. Московского Богоявленского м‑ря Феодосию, келарю [269] Сергию Шихову, казначею Севастьяну Ласкиреву с братией на дд. Пелхово, Сергеева и др. в Стародубе Ряполовском в 60 рублях сроком на год.
И в противни з закладные кабалы написано:
Се яз, княз Юрьи княж Иванов сын Шапкин Мезецково, занел есми у богоавленского игумена у Федосья да у келаря у Сергея у Шихова, да у казначея у Савастьяна 7 у Ласкирева, да у старца у Павла у Кубасова, да у старца у Фегнаста, да у съвященника у Гарасима, да у свешенника у Сергея, да у священника у Варлаама, и у всей братии шестьдесят рублев денег московских ходячих от Устретенъева дни // зимнего да Устретеньева ж дни зимнего на год. А в тех есми денгах у игумена у Федосья з братьею заложил своей вотчины в Стародубском уезде в Ряполовском деревню Пелхово да деревню Сергеево, да деревню Юрькиничи, да деревню Каблуковскою со всемя угодьи, что к тем деревням истари потягло, и с лесы с пашенными и не с пашенными. И игумену Федосью и з братьею те деревни за рост пахать и сена косить, и всякими угодьи владети, и слугам монастырским в тех деревнях жити, и прикащиком монастырским в тех деревнях крестьян ведати и доход всякой в тех деревнях с крестьян имати на монастырь. А полягуть денги по сроце, и игумену Федосью з братьею те деревни за рост пахати и сено косити, и всякими угодьи владети по тому ж, и слугам монастырским жити в тех деревнях, и прикащику монастырскому // в тех деревнях крестьян ведати и доход всякой со крестьян имати на монастырь. А те у меня деревня не проданы и не заложены в кабалах, ни в записях ни у кого, и по душе не отданы. А выляжет на те деревни какая крепость, и мне, князю Юрью, те деревни 8 очищать и не довесть в том и игумена Федосья, и з братьею убытка ничем. А по тем крипосьтям мне, князю Юрью, платити денги свои не ис тех деревень. А кои нас 9 заимщиков з закъладом в лицех, на том денги и рост.
А на то послухи князь Василей княж Иванов сын Ковров да Кобек Данилов сын Оляухов, да Дмитрей Васильев сын дьяк, да Огофон Ефремов сын Шишкина, да Олексей Олферьев 10 сын Дворянинов.
А кабалу писал Фетка Иванов сын Фаев лета 7068-го.
А назади закладные кабалы написано: //
Князь Юрья денги занял и вотчину заложил, и руку приложил.
Посълух князь Василей руку приложил.
Послух Дмитрей Васильев сын дьяк руку приложил.
Послух Алешка руку приложил.
ГАВО. Ф. 417. Оп. 3. № 10. Л. 50 о6.–52. Список 1747 г.
Комментарии
1. Начало акта утрачено.
2. В ркп.: Ca; восстановлено по тексту рукоприкладства.
3. Так в ркп.; правильно: Строкин.
4. В ркп. далее зачеркнуто: Протопопов.
5. Так в ркп.; ср. ниже.
6. Так в ркп.
7. В ркп. две первые буквы сильно затерты и плохо читаются.
8. В ркп. вписано на поле.
9. В ркп.: на.
10. В ркп.: Олфеев.
Текст воспроизведен по изданию: Две кабалы князя Ю. И. Мезецкого из архива Московского Богоявленского монастыря // Русский дипломатарий, Вып. 9. М. Древлехранилище. 2003© текст — Давыдов М. И. 2003
© сетевая версия — Strori. 2015
© OCR — Андреев-Попович И. 2015
© дизайн — Войтехович А. 2001
© Русский дипломатарий. 2003
ПЕЧАТКИ
Печаток не знайдено
ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
- 1523 г. сентября 8. – Закладная грамота князя Ивана (Меньшого) Михайлова сына Мезецкого благовещенскому протопопу Василию и его сыну Ивану на село Глумово с деревнями в Суздальском уезде.
- 1523 год. Очищальная запись князя Ивана Шапцы, Петра и Семена Михайловых детей Мезецких их младшему брату князю Ивану Меньшому Михайлову сыну Мезецкого на проданные ему три жеребья села Глумова с деревнями, починками и пустошами в Суздальском уезде.
- 1557 г. сентября 1 – 1558 г. марта 9. — Духовная кн. Семена Михайловича Мезецкого.
- 1571/1572 г. княгиня Мария Коврова и княгиня Федосья, жена князя Петра Борисовича Пожарского, дали Спасо-Евфимьеву монастырю своего отца князя С. М. Мезецкого благословение в память по отце и по матери Пелагее, по муже Марии князе В. И. Коврове, по муже Федосьи князе П. Б. Пожарском, и по детях князьях Юрии, Александре, Иване, княжне Варваре, дяде князе П. М. Мезецком свою вотчину в Стародубе Ряполовском сельцо Лучкино с деревнями 12 деревнями, 1 починком и 2 селищами
- 1576 г. августа 24. – Данная кн. Бориса Ивановича Мезецкого арх. Борисогл. м‑ря Самоилу на д. Гусли с пустт. в Дубровском ст. Муромского у.
АЛЬБОМИ З МЕДІА
Медіа не знайдено
РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ
- Поменник Введенської церкви, 2007. C. 18[↩]
- Филарет, 1873. C. 37. Сноска 72[↩]
- РИИР. Вып. 2. C. 19; Родословная книга, 1851. C. 72, 240; Кузьмин, 2012. C. 182.[↩]
- РИИР. Вып. 2. C. 113.[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 106.[↩]
- Горский, 2010. C. 117–120[↩]
- ПСРЛ. Т. 25. М., 2004. C. 219[↩]
- Беспалов, 2009а. C. 206–209[↩]
- Любавский, 1892. C. 55–56. Карта; Kuczyński, 1936. S. 146–148. Mapa; Шеков, 1993. Карта; Шеков, 2012а. C. 147–151. Карта 3; Темушев, 2007. C. 262[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 120[↩]
- LM. Kn. 3. P. 34, 46; РИБ. Т. 27. Стб. 40–41, 69[↩]
- Поменник Введенської церкви, 2007. C. 19[↩]
- Поменник Введенської церкви, 2007. C. 19[↩]
- Зотов, 1892. C. 29; Поменник Введенської церкви, 2007. C. 1. В третьей книге записей Литовской метрики сохранилась выпись из жалованной грамоты Казимира трем детям князя Андрея Всеволодича: Федору, Роману и Ивану, которые впервые в источниках явно названы «мезецкими князьями» ((LM. Kn. 3. P. 44; РИБ. Т. 27. Стб. 64–65.[↩]
- Брх. I, 201; сС, 72; сБ, 243; ЮТ. 57; Зот. 308[↩]
- ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. C. 282; РИИР. Вып. 2. C. 113–114.[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 137.[↩]
- Брх. I, 201; сС, 72; оВ, 243; ЛР. I, 373; ЮТ. 57.[↩]
- Брх. I, 201; сС, 72; сБ, 243; ЛР. I, 373; ЮТ. 57.[↩]
- Брх. 1,201; оС, 72; сБ. 243; ЛР. I, 373; ЮТ. 58.[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 4, 16, 147; LM. Kn. 4. №23.15. P. 88]. Таким образом, он был не только самым старшим, но и самым состоятельным в роду. Вероятно, находился в каком-то родстве с воротынскими князьями. Так, в Введенском Печерском синодике в «роду князя Воротинского» поминают «кн(з): Iоанна Андреевича Шутича Мезитского» [Поменник Введенської церкви, 2007. C. 26]. Старшие князья Иван Андреевич и Петр Федорович были наиболее влиятельны. Сохранились сведения о получении ими денежных пожалований на литовской службе [LM. Kn. 4. №16.4. P. 59; №23.15. P. 88].
В октябре 1487 г., а затем в январе и марте 1488 г. на литовско-московских переговорах обсуждались события, произошедшие 13 августа 1487 г.19 Они стали результатом длительных неприятельских действий литовских слуг: князей Дмитрия и Семена Воротынских, а также князя Ивана Андреевича Мезецкого с его «братьею» — с одной стороны, и московских слуг: князей Ивана Белёвского, Ивана Перемышльского и детей покойного князя Семена Одоевского — с другой стороны. Последние жаловались на мезецких князей, что «много лиха чинилось отъ нихъ и отъ ихъ людей татбами и разбои, и грабежи великими». В начале августа 1487 г. люди мезецких князей напали на вотчину одоевских Семеновичей, «много лиха учинили; жены, дети головами повели». Слуги последних вместе с людьми князей Ивана Перемышльского и Ивана Белёвского пустились за ними в погоню. Те же въехали в город Мезецк и затворились в нем. Одоевские бояре обратились к мезецким князьям, чтобы «полонъ ихъ и грабежь велели отдати, а лихихъ бы показнили». Однако на них напали сами мезецкие князья: Михаил Романович, Иван Огдыревский, Федор Сухой, Петр и Василий Федоровичи вместе со своими людьми и с людьми князя Семена Воротынского. В итоге некоторые одоевские, перемышльские и белёвские люди были побиты до смерти, а иные были взяты в плен. Отряды, осаждавшие Мезецк, тоже захватили пленных, но вынуждены были отступить. Когда же мезецкие князья пустились в погоню, то те «бой поставили» и слуг литовских побили [СИРИО. Т. 35. C. 3–5, 7–8, 16–17]. В бою под Мезецком не участвовал старший князь Иван Андреевич (возможно, по старости) и один из его племянников князь Семен Романович, и в будущем довольно бездеятельный.
∞, София ..... ....., 1494, ея часть города Мезецка Вел. Кн. Московскій, отдалъ князю Михаилу Романовичу М. [СИО, 152; Вольф. 258].
Бездетный
КН. ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ШУТИЧИЧ МЕЗЕЦКИЙ, ПР. СЛЕПОЙ (* ...., † ....)
5‑й сын Андрея Всеволодовича и Евпраксии.((Брх. I, 201; сС, 72; оВ, 243; ЛР. I, 373; ЮТ. 58.[↩]
- ЮТ. 58; Зот. 303; Вольф. 8[↩]
- Вольф., 8, 280.[↩]
- Вольф., 8, 60.[↩]
- Брх. I, 209; Власьев. Т. 2. С. 3. № 7.[↩]
- Брх. I, 209; Власьев. Т. 2. С. 3. № 8.[↩]
- СИО, 7.[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 156, 157[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 141[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 152[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 195.[↩]
- Брх. I, 209; Власьев. Т. 2. С. 3. № 9.[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 4–5, 7, 121, 127, 131 и др.[↩]
- Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499–1514). Užrašzymų knyga 8. P. 184.[↩]
- Брх. I, 210; Власьев. Т. 2. С. 3. № 10.[↩]
- Брх. I, 210; Власьев. Т. 2. С. 3. № 10.[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 4–5, 7, 121, 127, 131 и др.[↩]
- СИРИО. Т. 41.C. 442.[↩]
- СИРИО. Т. 35. C. 127, 130–131.[↩]
- Брх. I, 210[↩]
- ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 334[↩]
- Местнический памфлет Алферьевых против «новых бояр» // Архив русской истории, Вып. 7. 2002; РНБ. Эрмитажное собрание. № 441. Л. 72–87 об. Рукопись 1620‑х гг. [↩]
- РК 1475–1605 гг. М., 1982. Т. 2. Ч. 2. С.298; о местническом деле кн. В. В. Мосальского и Р. В. Алферьева см. также: Эскин Ю. М. Местничество... С. 58[↩]
- Брх. I, 210[↩]
- Московский летописный свод //ПСРЛ. Рязань, 2000. Т. 8. С. 385.[↩]
- Ермолинская летопись // Там же. Т. 7. С. 210.[↩]
- Там же. С. 255.[↩]
- Симеоновская летопись // ПСРЛ. Рязань, 1997. Т. 1. С. 306, 364.[↩]
- Московский летописный свод. С. 420.[↩]
- Там же. С. 444. [↩]
- Там же. С. 447.[↩]
- ПСРЛ. IV, 149, 155; V, 274, 268—9; УІ, 36, 39, 176, 190, 277; УІІІ, 119, 158, 214, 227.[↩]
- Там же. С. 449.[↩]
- Ермолинская летопись. С. 244.[↩]
- ПСРЛ. IV, 160, 163, 268; УІ, 39, 240; VIII, 4, 227.[↩]
- Московский летописный свод. С. 453.[↩]
- Там же. 12[↩]
- Зимин А.А. Княжеская знать и формирование состава Боярской думы // ИЗ. М., 1979 Вып. 103. С. 220.[↩]
- Там же. С. 223.[↩]
- Брх. I, 210[↩]
- ЮТ, 60; Милюк. 98.[↩]
- Рус. Ист. Сб. V, 25; Милюк. 112.[↩]
- d. 26 и d. 118, 120[↩]
- d. 225, 291–2 и d. 123, 125[↩]
- Тысячная книга 1550 г. и дворовая тетрадь…. – С. 234.[↩]
- Брх. I, 210[↩]
- Брх. I, 210[↩]
- Брх. I, 210[↩]
- Брх. I, 210; оС, 72; сБ, 243; ЛР. I, 374, ЮТ, 60.[↩]
- Брх. I, 210; Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 136.[↩]
- Милюк. 53[↩]
- Рус. Ист. Сб. ѴІІ, 273.[↩]
- АРГ. АММС. № 82. С. 205–209; АССЕМ. № 37. С. 95–99.[↩]
- АРГ. АММС. № 82. С. 208.[↩]
- АРГ. АММС. № 82. С. 205–209; АССЕМ. № 37. С. 95–99.[↩]
- ОР РГБ. Ф. 303ЛI. Кн. 545. Л. 63.[↩]
- АССЕМ. № 97. С. 222.[↩]
- ОР РГБ. Ф. ЗОЗЛІ. Кн. 545. Л. 63; АРГ. АММС. № 60. С. 149; № 61. С. 150. Деревня Дубакинская в 1538 г. показана владением князя П.М. Мезецкого (Там же. № 82. С. 208).[↩]
- Озеро Сорокино принадлежало данной духовной корпорации по меньшей мере до 1566/67 г. (АССЕМ. № 147. С. 290; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11321. Л. 540). Князья Горбатые тесно сотрудничали с этой обителью; неисключено, что изначально она являлась их родовым богомольем и усыпальницей; о связях Горбатых с Николо-Шартомским монастырем см.: Сборник князя Хилкова (далее — Сборник Хилкова). СПб., 1879. № 1. С. 1; Лихачев Н.П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. СПб., 1895. Вып. 1. № 7. С. 23; АССЕМ. № 35. С. 91–92; ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. № 68. Л. 37-об. Стародубские князья, а равно и князья Мезецкие прочных контактов с этим монастырем не имели. Следовательно, озеро Сорокино могло достаться последнему лишь от Авдотьи Горбатой. К сожалению, дальнейшую судьбу рассматриваемого владения проследить не удалось.[↩]
- АРГ. АММС. № 82. С. 205–209; АССЕМ. № 37. С. 95–99.[↩]
- АССЕМ. № 97. С. 221; № 106. С. 235.[↩]
- Там же. № 97. С. 221; РГАДА. Ф- 281. Бежецк. № 141/1245.[↩]
- BKTCM. С. 51.[↩]
- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 212. Л. 362 об.[↩]
- АССЕМ № 97. С. 222.[↩]
- АРГ. АММС. № 82. С. 205–209; АССЕМ. № 37. С. 95–99.[↩]
- АРГ. АММС. № 82. С. 203; Давыдов М.И. Две кабалы... № 1–2. С. 268–269; ГАВО. Ф. 417. Оп. 3. № 10. Л. 49 об.-50, 52. В права наследства Юрий Шапкин вступил не позднее середины 50‑х гг. XVI в.: в тексте Дворовой тетради напротив имени его отца стоит пометка «умре» (ТКДТ. С. 149).[↩]
- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11320. Ч. II. Л. 1175, 1191 об., 1204 об.-1205.[↩]
- ОР РГБ. Ф. 303ЛI. Кн. 545. Л. 63.[↩]
- АССЕМ. № 97. С. 222.[↩]
- ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. № 34. Л. 7.[↩]
- Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника. Акты X‑XVI вв. М., 1996. С. 201–202.[↩]
- ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. № 34. Б/п (между Л. 6 и 7).[↩]
- АССЕМ. М., 1998. № 37. С. 97–98; АРГ. АММС. М., 1998. № 82. С. 207–208; Ивановская область. Топографическая карта. М., 1997. С. 20, 21.[↩]
- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11320. Ч. II. Л. 1300–1304 об.[↩]
- АССЕМ. М., 1998. № 149. С. 305–306. Примерное местонахождение деревни Коптево устанавливается но факту ее соседства с деревней Княгининской (Княгинихой), см.: Ивановская область. Топографическая карта... С. 20, 21.[↩]
- ГАВО. Ф. 417. Оп. 3. № 10. Л. 52 («А в обыску сказали: пустошь Перхово да пустошь Коптевская, Юркову тоже <...> князь Иван княж Юрьев сын Мезецкой те пустоши выкупил, а и владеет ими князь Иван»), Кстати, сам князь И. Ю. Мезецкий утверждал, что пустоши выкупил еще его отец (Там же. Л. 50, 50 об.). Данное противоречие можно объяснить как небрежностью писца Я. П. Вельяминова и подьячего Ф. Андреева в оформлении текста писцового описания, так и их непрофессионализмом в проведении следственных мероприятий относительно владельческой принадлежности спорных пустошей.[↩]
- РГАДА. Ф. 281. № 5036. Л. 1–5; Архив РАН. Ф. 620. Оп. 1. Д. 50. Л. 15; Лихачев Н.П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. СПб., 1895. С. 39–56.[↩]
- ОР РГБ. Ф. 303ЛI. Кн. 545. Л. 63.[↩]
- АССЕМ. № 97. С. 222.[↩]
- ОР РГБ. Ф. 303ЛI. Кн. 545. Л. 63[↩]
- Давыдов М.[И.] Место родственных и корпоративных связей... С. 154–155 (характеристику обстоятельств совершения сделки см. там же. С. 145–154[↩]
- АССЕМ № 97. С. 222.[↩]
- Кистерев С.Н. Владимирский Рождественский монастырь... № 25. С. 116.[↩]
- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11320. Ч. II. Л. 867–871 об. (сведения относительно 14 бывших деревень князя С.Г. Гундорова; дальнейшая судьба остальных 5 поселений неизвестна).[↩]
- АССЕМ. № 167. С. 325–326.[↩]
- ОР РГБ. Ф. 303ЛI. Кн. 545. Л. 63[↩]
- Давыдов М.[И.] Место родственных и корпоративных связей... С. 154–155 (характеристику обстоятельств совершения сделки см. там же. С. 145–154[↩]
- АССЕМ № 97. С. 222.[↩]
- Кистерев С.Н. Владимирский Рождественский монастырь... № 25. С. 116.[↩]
- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11320. Ч. II. Л. 867–871 об. (сведения относительно 14 бывших деревень князя С.Г. Гундорова; дальнейшая судьба остальных 5 поселений неизвестна).[↩]
- АССЕМ. № 167. С. 325–326.[↩]
- ЧОИДР. 1895. Кн. I. Отд. I. С. 3.[↩]
- ПК 10815. Л. 343; ИРГО. Вып. II. С. 72; ЗВК. С. 158, 976; Корецкий В. И. Развитие феодальной земельной собственности в России XVI века // Социально-экономические проблемы российской деревни. Ростов н/Д, 1980. С. 42; Павлов А. П. Государев двор. С. 181–182.[↩]
- ПК 7646. Л. 195 об.-218; ИРГО. Вып. II. С. 75; ЗВК. С. 158.[↩]
- ЗВК. С. 976.[↩]
- ПК 10326. Л. 499; ИРГО. Вып. II. С. 80; ГИМ. ОР. Епархиальное собр. № 732 (Вкладная Пафнутьева монастыря). Л. 32–36 об.; РГАДА. Ф. 233. Кн. 661. Л. 54 об.; ПК 9606. Л. 494 об.; ПКМГ. Ч. I. Отд. I. С. 217; ЗВК. С. 299–300.[↩]
- ПК 425. Л. 562.[↩]
- РНБ. OP. F.IV. № 529. Л. 1387, 1390; ИРГО. Вып. II. С. 71; РГАДА. Ф. 233. Кн. 671. Л. 340 об.[↩]
- В писцовой книге 1627–1628 гг., видимо, ошибочно указано, что эта вотчина была дана Д. И. Мезецкому «за царя Васильево осадное сидение» (ПК 203. Л. 393 об.). В духовной Д. И. Мезецкого 1628 г. говорится, что он был пожалован с. Микульским при царе Василии в поместье, а после, при царе Михаиле, был пожалован этим сельцом в вотчину за осадное сидение «в королевичев приход» (ИРГО. Вып. И. С. 73). Д. И. Мезецкой был пожалован коломенским с. Микульским по одной жалованной грамоте от 22 августа 1619 г. с рязанской и суздальской вотчинами (ЗВК. С. 158). Известно, что вотчины в Рязани и Суздале Д. И. Мезецкой получил за осадное сидение 1618 г.[↩]
- ПК 1070. Л. 267; ПК 13328. Л. 248; ИРГО. Вып. II. С. 72; ЗВК. С. 158. [↩]
- ПК 11320. Л. 609; ИРГО. Вып. II. С. 72; ЗВК. С. 158.[↩]
- ПК 9806. Л. 1058; ИРГО. Вып. II. С. 71.[↩]
- ПК 96. Л. 446; ИРГО. Вып. II. С. 72.[↩]
- ПК 9807. Л. 415 об.; ПК 193. Л. 1402; ПК 203. Л. 165; РНБ. OP. F.IV. № 428. Л. 591 об.[↩]
- ИРГО. Вып. II. С. 71–83.[↩]
- см.: ГИМ. Собр. Епарх. № 732. Л. 32.[↩]
- ЗВК. С. 299–300.[↩]
- РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 245. Л. 53.[↩]
- ЧОИДР. 1895. Кн. I. Отд. I. С. 9.[↩]
- ПК 425. Л. 425; Рузский уезд по писцовой книге 1567–1569 годов. М., 1997. С. 200–201.[↩]
- ПК 628. Л. 5, 24.[↩]
- ПК 425. Л. 852 об.; ПК 613. Л. 35 об.; Власьев Г. А. Т. I. Ч. 2. С. 22.[↩]
- РНБ. OP. F.IV. № 548; ПК 57. Л. 140 об.; ПК 14716. Л. 254; ПК 628. Л. 223; ПК 1064. Л. 4, 455; Сторожев В. Н. Материалы Поместного приказа. Стб. 401.[↩]
- ЗВК. С. 978.[↩]
- ИРГО. Вып. II. С. 71–79; ЗВК. С. 157–158; ПК 7646. Л. 195 об., 208; РНБ. OP. F.IV. № 529. Л. 1387; ПК 1070. Л. 267, 271 об.; ПК 203. Л. 393 об.[↩]
- ЗВК. С. 977.[↩]
- ЗВК. С. 272, 433,614.[↩]
- ЗВК. С. 500.[↩]
- ЗВК. С. 976; Холмогоровы. Вып. X. С. 44.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 669. Л. 9 об.; Кн. 670. Л. 318.[↩]
- ЗВК. С. 977–978.[↩]
- ЗВК. С. 1251.[↩]
- Власьев Г. А. Т. I. Ч. 2. С. 22.[↩]
- ПК 11320. Л. 1191 об.; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Кн. 6007. Л. 394, 405.[↩]
- ПК 14725. Л. 950.[↩]
- ЗВК. С. 310.[↩]
- РНБ. OP. F.IV. № 462. Л. 222; Сташевский Е. Д. Землевладение. С 144.[↩]
- ИРГО. Вып. II. С. 71–79; ЗВК. С. 157–158; ПК 7646. Л. 195 об., 208; РНБ. OP. F.IV. № 529. Л. 1387; ПК 1070. Л. 267, 271 об.; ПК 203. Л. 393 об.[↩]
- ЗВК. С. 272, 433,614.[↩]
- ЗВК. С. 1003–1004.[↩]
- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Кн. 6007. Л. 387–405.[↩]
- Власьев Г. А. Т. I. Ч. 3. С. 231[↩]
- Власьев Г. А. Т. I. Ч. 3. С. 231.[↩]
- ПК 11320. Л. 1175–1219.[↩]
- ПК 57. Л. 283 об., 284; ПК 62. Л. 743 об.; ПК 14720. Л. 1063, 1064; ПК 14726. Л. 81, 90; ПК 94. Л. 41 об., 90 об.; ПК 915. Л. 132; ДПП. С. 412.[↩]
- ПК 915. Л. 193.[↩]
- ПК 96. Л. 75, 78.[↩]
- ИРГО. Вып. 2. С. 72.[↩]
- РГАДА. Ф. 137. Москва. № 2. Л. 92; РГАДА. Ф. 137. Боярская книга. № 14. Л. 12 об.[↩]
- ЗВК. С. 977.[↩]
- Там же. С. 978; РГАДА. Ф. 233. Кн. 673. Л. 358.[↩]
- ПК 11828. Л. 1120; Власьев Г. А. Т. I. Ч. 2. С. 25.[↩]
- Власьев. Т. 2. С. 36.[↩]
- ПК 57. Л. 283 об., 284; ПК 62. Л. 743 об.; ПК 14720. Л. 1063, 1064; ПК 14726. Л. 81, 90; ПК 94. Л. 41 об., 90 об.; ПК 915. Л. 132; ДПП. С. 412.[↩]
- ПК 915. Л. 193.[↩]
- ПК 14726. Л. 135.[↩]
- ИРГО. Вып. 2. С. 72.[↩]
- Сташевский Е. Д. Землевладение. С. 144–145.[↩]
- РГАДА. Ф. 137. Москва. № 2. Л. 92; РГАДА. Ф. 137. Боярская книга. № 14. Л. 12 об.[↩]
- ПК 11828. Л. 1120; Власьев Г. А. Т. I. Ч. 2. С. 25.[↩]
- ИРГО. Вып. II. Л. 72; ЗВК. С. 977, 978.[↩]
- ПК 11317. Л. 59, 128.[↩]
