Общие сведения
Репнины — княжеский род, Рюриковичи, потомки черниговских князей, ветвь князей Оболенских. Род внесён в Бархатную книгу.1 При подаче документов (01 февраля 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись князей Репниных, а также боярин, князь Иван Борисович Репнин с сородичами, князем Константином Осиповичем Щербатовым и князем Михаилом Ивановичем Лыковым выступил с протестом (03 мая 1688) против внесения родословия князей Волконских в Бархатную книгу в главу Черниговских князей.2
Вотчины князей Репниных
Вотчиной князей Репниных на территории Оболенского уезда было село Ивановское. Во второй половине XVI в., в своем четвертом поколении, князья Репнины были представлены четырьмя лицами. Похоже, что это поколение серьезно пострадало во время опричнины. О казни бездетного князя Михаила Петровича в 1564 г. известно достоверно; последнее упоминание его брата Ю рия относится к 1563 г. Один из двоюродных братьев Михаила и Юрия Петровичей, Семен Васильевич, известен только по родословным. Вероятно, он умер молодым и бездетным. Род продолжился через князя Андрея Васильевича и его единственного сына Александра.
В 1574/75 г. князь Александр Андреевич по приказу отца дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь две выти в селе Ивановском с 12 пустошами в Оболенском уезде. Другие части села Ивановского к 1629 г. находились в вотчине у князя Василия Васильевича Тюфякина (по меновной записи, в 1616/17 г. принадлежала князю Григорию Васильевичу Тюфякину3), в поместьях у княгини Пелагеи Белоглазовой Лыковой с детьми (в 1616/17 г. за князем Петром Борисовичем Белоглазовым Лыковым) и княгини Елены Долгоруковой (в 1616/17 г. за Лаврентием Дмитриевичем Салтыковым). Надо думать, что эти части села Ивановского принадлежали опальным князьям Репниным и в опричнину были отписаны на царя.
Дети князя Александра Андреевича Петр и Борис сделали блестящую карьеру, возобновив присутствие своего рода среди бояр. Влияние и, вероятно, стабильно высокое материальное положение позволило братьям возродить и приумножить вотчину князей Репниных в родовом гнезде. После смерти князя Василия Ивановича Туренина (1633 г.) Репнины получили его выморочную вотчину. В 1638 г. Петр и Борис Александровичи вернули себе вотчину «деда» (на самом деле, очень дальнего родственника), князя Дмитрия Ивановича Немого Ерша (Табл. 8, № 10) — село Ильинское с деревнями Оболенского уезда. К 1646 г. в их вотчине оказалось примыкавшее к Ильинскому сельцо Горнево — былая вотчина князей Горенских, ранее (1629 г.) бывшее в вотчине у Якима Иванова сына Радищева и Александра Иванова сына Рылкова. К этому же времени Петр и Борис Александровичи выкупили у Троице-Сергиева монастыря село Овчинино с деревнями и пустошами. Эти приобретения, представлявшие собой единый массив земель, сделали князей Репниных, еще в 1629 г. вовсе не представленных в числе оболенских землевладельцев, крупнейшими вотчинниками в родовом гнезде.
В конце XVII — начале XVIII в. в связи с бездетностью единственного сына князя Петра все вотчины этого рода сосредоточились у знаменитого сподвижника Петра I князя Никиты (Аникиты) Ивановича, внука князя Бориса. Женитьба его на дальней родственнице, княжне Прасковье Михайловне Лыковой, принесла ему в приданое половину села Спасского в Загорье (Лыков конец). Однако в связи с ранней и бездетной кончиной княгини Прасковьи, это имение отошло к ее отцу, а позднее было отписано в казну. Тем не менее, и сам князь А. И. Репнин, и его потомки продолжили умножать свою оболенскую вотчину. Ими была выкуплена пустошь Дорна из владений Новодевичьего монастыря, у «антоновских казаков» — пустошь Панино, Самосудовское тож, а из пометья Семыниных — пустоши Слобода, Кохоново, Нижняя Зубовка.
Ко времени Генерального межевания князья Репнины вышли из состава оболенских землевладельцев. Села Ильинское и Овчинино с деревнями (в т. ч. Горнево) и пустошами числились за Экономическим ведомством, «что прежде были за графами Орловыми».
Источник: Хоруженко О. И. Историческая география Оболенского уезда ХVII ‑ХVIII веков / О. И. Хоруженко. — М: Квадрига, 2019. — 480 с.: ил. (Историко-географические исследования). С. 135–136.
Поколенная роспись
❋ Рюрик, князь Новгородский
⇨ Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945
⇨ Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972
⇨ Владимир I, великий князь Киевский +1015
⇨ Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054
⇨ Святослав II, великий князь Киевский 1027–1076
⇨ Олег Святославич, князь Черниговский +1115
⇨ Святослав Ольгович
⇨ Всеволод Святославич
⇨ Святослав Всеволодович Трубчевский
⇨ Всеволод Святославич
⇨ Михаил Всеволодович
⇨ Юрий Торусский
⇨ Константин Юрьевич Оболенский
⇨ Иван Константинович Оболенский
⇨ Иван Иванович Оболенский
⇨ Михаил Иванович, князь Оболенский
XVIII генерация от Рюрика
1. КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ, ПР. РЕПНЯ, ПР. НАЙДЕН4
князь, боярин и воевода в княжение Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича, сын одного из последних удельных князей оболенских — Михаила Ивановича.5 В 1490 году брал Вязьму у литовцев. В 1491 вместе со служилым касимовским царевичем Сатылганом ходил на помощь Крымскому хану Менгли-Гирею против царевичей Большой Орды — Сеид-Ахмеда и Шейх-Ахмеда и, совершив удачный маневр, вынудил их очистить поле боя без сражения. В 1492 году водил к Смоленску полк правой руки. В 1494 году наместничал в Суздале. В 1495 году сопровождал Ивана III в Новгород Великий, откуда был направлен против шведов в Финляндию с передовым полком 2‑м воеводой, осаждал Выборг. Осенью 1496 года водил передовой полк к Казани. В 1497 году направлен наместником в Устюг Великий. В 1500 упомянут на свадьбе князя В.Д. Холмского и великой княжны Федосьи Ивановны. В том же году водил передовой полк к Путивлю против литовцев и помог воеводе Я.3. Кошкину-Захарьину в завоевании города, затем участвовал в Ведрошской битве, где русские войска разгромили литовцев. В 1502 году водил передовой полк в составе войска, ходившего на Литву, к Смоленску, брал Оршу и опустошал литовские волости до Полоцка и Мстиславля. Зимой 1502/03 годов водил полк левой руки «из Северы на литовскую землю». В 1505 послан против хана Мухаммед-Эмина к Казани в судовой рати с полком левой руки в войске Дмитрия Жилки. Поход не удался, и Оболенскому-Репне с трудом удалось уйти от татар. Осенью 1507 года, в связи с началом Литовско-русской войны, водил передовой полк в войске воеводы Я. Кошкина-Захарьина к Смоленску, опустошал литовские волости. В 1508 году ходил с тем же полком к Дорогобужу и брал город; осенью того же года ходил со сторожевым полком — 2‑м воеводой из Москвы к Вязьме, а оттуда — в Дорогобуж после получения сообщения о том, что король Сигизмунд I Старый послал из Смоленска к Дорогобужу С. Кишку и других своих воевод. В 1500 году — наместник в Пскове, но быстро восстановил против себя его жителей. В результате, когда великий князь осенью того же года прибыл в Новгород, к нему пробились псковские посланники с жалобами на Оболенского-Репню и его администрацию, а также посланники противной стороны с жалобами на псковичей. Назначили суд с присутствием наместника, посадников и старост Пскова, но вместо суда псковичей сразу же арестовали, а псковское самоуправление уничтожили. В 1512 году снова участвует в войне с Литвой. Видимо, в том же году был возведён в сан боярина и в звании вяземского наместника водил большой полк к Смоленску. Летом 1513 был послан из Боровска в Вязьму, где возглавил передовой полк в войске воеводы князя Д.В. Патрикеева-Щени; осенью того же года был отправлен из Дорогобужа к Смоленску с большим полком впереди основного войска, встретил неподалёку от городского вала смоленского наместника литовского воеводу Ю.Соллогуба с войском, разбил его и осадил город, но не смог его взять, из-за чего был отстранён от воинских дел. За последние десять лет жизни князя Ив. Мих. мы не встречаем его имени ни в Разрядах, ни в Летописях.
В 1491г. он был послан, вместе с князем П. Н. Оболенским, во главе московского войска против ордынских царей Сеид-Ахмета и Шиг-Ахмета, которые хотели идти на друга великого князя Иоанна III — Крымского хана Менгли-Гирея; узнав, что московское войско стоит уже на берегах Донца, Сеид-Ахмет и Шиг-Ахмет удалились. В 1492 г., в походе Иоанна III против шведов, князь Найден был дворянином, а затем воеводой сторожевого полка. В 1493—1494 и 1496 гг. он был воеводой передового полка в походе на Вяземские места, а затем против шведов. В 1494 г. угощал послов вел. князя литовского Александра Казимировича, обедавших у вел. князя Ивана Васильевича, а в 1500 г. был сыном боярским, причем был в числе поезжан на свадьбе князя Вас. Дан. Холмского с дочерью великого князя Ивана Васильевича; в том же году он был воеводой передового полка при походе под Путивль и Брянск, а в 1502 г. — воеводой в левой руке и участвовал в осаде Смоленска, который не мог быть взят за недостатком продовольствия в московском войске. В 1506 г. он был воеводой в левой руке в походе к Казани, под главным предводительством князя Дмитрия Ивановича, брата великого князя Василия Ивановича, в 1508 г. — воеводой в передовом полку, при походе к Дорогобужу, в 1509 г. — воеводой в сторожевом полку; в том же году, по поручению великого князя Василия Ивановича, князь Ив. Мих. Репня вместе с двумя другими новгородскими наместниками — Даниилом Щеней и Григ. Фед. Давыдовым — заключил в Новгороде мирный договор с ливонскими послами.
Мы имеем более подробные сведения о князе Репне только за время его наместничества в Пскове. В 1509 г. великий князь Василий Иванович отозвал из Пскова наместника князя Петра Вас. Великого и послал на его место князя Ив. Мих. Репню-Оболенского, которого псковичи прозвали Найденом, как сказано в летописи, — за то, что он «не пошлиною (не по старому порядку, не по обычаю) приехал: нашли его псковичи на загородском дворе, а священники против него со кресты не выходили, а пели молебен на торгу, да шли ко Св. Троице». Самостоятельность Пскова, как видно, близилась к концу: Московский великий князь назначал наместников без участия веча, а князь Репня, приехав во Псков, не счел нужным выполнить обычая — встречи со крестом и служения на пути молебнов. Такое начало не предвещало ничего хорошего: и действительно, князь Репня не только не принимал к сердцу интересов псковичей, но всячески притеснял их и заслужил всеобщую ненависть. В конце октября 1509 г. псковичи, услыхав о приезде в Новгород великого князя Василия Ивановича и брата его князя Андрея Ивановича, обрадовались возможности принести великому князю жалобу на наместника. Они отправили послами двух посадников: Юрия Алексеевича и Михаила Помазова и выборных бояр, вручили им полтораста рублей в дар великому князю и велели бить челом, что они обижены от наместника и от его людей. Выслушав послов, великий князь сказал: «Я вас, свою отчину, хочу жаловать и оборонять, так же, как отец наш и деды наши, великие князья. А что вы мне говорите о наместнике моем, а о своем князе Ив. Мих. Репне, то ежели на него соберется много жалоб, я его обвиню перед вами». Возвратившись во Псков, посланники представили вечу следующий многознаменательный ответ о своем посольстве: «Князь великий Псковский дар принял честно, а сердечные мысли никто же весть, что князь великий сдумал на свою отчину и на мужей Пскович, и на город Псков». Несмотря на эти слова, из которых ясно, что посланники предугадывали нерасположение великого князя ко Пскову, псковичи продолжали ссориться со своим наместником, и тот, спустя несколько времени по возвращению посольства, сам отправился в Новгород с жалобой великому князю на псковичей, что они его обесчестили. Между тем, посадники и вече поступили очень неосторожно, положившись на слова великого князя и начав рассылать по волостям грамоты, чтобы все, недовольные наместником, ехали в Новгород бить на него челом великому князю. Недовольных набралось множество, но нашлись и такие люди, которые отправились в Новгород с жалобой не на князя Репню, а на своего собственного псковского посадника: так, напр., посадник Леонтий, поссорившись с посадником Юрием Копылом, поехал в Новгород судиться с ним перед великим князем. Очевидно, что псковичи не сознавала настоящего положения дел и сами подливали масло в огонь. Великий князь требовал присылки всех посадников, причем выразился так: «Ежели не поедут посадники из Пскова говорить против князя Ив. Репни, то вся земля будет виновата». Тогда в Новгород поехали не только девять посадников, но и купеческие старосты всех рядов. Их не допрашивали и объявили им, чтобы они собрались к празднику Крещения Господня (6 января 1510 г.), и что в этот день будет дана им управа. Псковичи исполнили повеление, собрались к назначенному числу в Новгород, пошли после обедни на реку, на водосвятие, а оттуда на владычный двор; посадники, бояре и купцы введены были в палату, а «молодшие» люди стояли на дворе. Московские бояре вошли в палату и сказали псковичам: «Поиманы вы Богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси». Посадников оставили в палате, а «молодших» людей переписали и отдали новгородцам по улицам беречь и кормить до управы. — Так говорит Псковский летописец. По известию же других летописцев, великий князь призвал к себе одновременно с князем Репней псковских посадников, которые и были обвинены в непослушании наместнику в том, что вступались в его суды и пошлины, держали его не так, как прежних наместников, причиняли со своей стороны псковичам много бед и насильств и, что важнее всего, государское имя презирали, нечестно держали. За это великий князь положил на посадников опалу и велел их схватить. Не беремся судить, которое из двух известий достовернее, но вскоре после суда великого квязя над псковскими посадниками Псков окончательно лишился вечевого устройства: 13 января 1510 г. был снят вечевой колокол от живоначальной Троицы и ночью вывезен в Новгород.
«Полн. Собр. Рус. Лет.», СПб. 1848 г., т. IV, с. 282—285; Никон. Лет., VI, с. 127, 194; «Соф. Временник», II. с. 238, 288, 293; «Др. Рос. Вивл.», IX, 190—191; XX, 16, 21; «Отеч. Зап.» 1830 г., ч. 44‑я, с. 5, 24, 25, 30, 33, 40, 44, 47; Чт. М. О. И. и Д. Р. 1902 г., I, с. 9, 20, 23, 26, 32, 34, 37, 42, 48, 52, 53; Карамзин, Ист. госуд. Рос., VI и VII; Соловьев, Ист. России, т. V; Н. Лихачев, Разрядные дьяки; Бантыш-Каменский, Словарь достопам. людей, 1836 г., т. IV, с. 874—877; Беляев, И. Д. История г. Пскова и Псковской земли, М. 1867 г., с. 367—371; Никитский, Очерк внутренней истории Пскова, СПб. 1873 г., стр. 292—294; «Сборн. Имп. Рус. Ист. Общ.», т. XXXV, стр. 123.
XIX генерация от Рюрика
2/1. КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БОЛЬШОЙ РЕПНИН, ИН. ВАССИАН (?-1546)
воевода 1‑й пол. XVI в., сын боярина кн. Ивана Михайловича Ивановича Оболенского-Репни.(Брх. I. 218; Долгоруков.Т. 1.С. 271, N° 2; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 414—415, № 2; Кобрин. Материалы. С. 102, № 66; Корсакова В. Репнин, князь Василий Иванович // РБС. Т. 16. С. 85.)) В иноках Вассиан, — был чернцом в Корнилиеве монастыре.6
1519, в войне с Литвой, был одним из войсковых воевод.[Крмз. VII, прм. 201]. 1520, воевода в Новгороде-Северском [Др. Р. Вив. IX, 191— росп.] 1527, по росписи на берегу, был воеводой на Коломне, и затем в Серпухове; в сент., при нашествии Ислама, находился с другими воеводами в Ростиславле 7 1536—7, одним из воевод на Угре.[Др. р. Вив. ІХ, 191; Милюк. 99,101]. 1537, сент., в предполагавшемся пох. на Казань был назначен перв. воев. передов. п. конной рати [Милюк. 104] В 1539 г. — наместник в Пскове вместе с боярином кн. А. М. Шуйским. Оба они, по выражению летописца, были «свирепы, как львы», а люди их, «аки зверие дивии до крестьян» (христиан). Жители Пскова разбежались тогда по др. городам, игумены монастырей ушли в Новгород Великий, население пригородов не решалось ездить в Псков. После челобития псковичей вел. князь убрал Шуйского из города, но Репнин продолжал оставаться там ещё некоторое время и, по выражению летописца, «была ему нелюбка до Пскович велика...». 8 1541, после смещения Андр. Мих. Шуйскаго, остается перв. воев. во Пскове [d, 305].
Вскоре после этого ушёл в Корнильев монастырь, принял иночество под именем Вассиана.
Вклад в Толгский монастырь был дан князем Василием Репниным, и соответствующее поминание внесено в СРГБ. «Род княж Васильев Репнина. Князя Михаила, князя Ивана, князя Ивана, кнеиню Овдотью, кнеиню Евдокию, иноку кнеиню Ефросинью» (ОР РГБ. Ф. 205. Общество истории и древностей Российских. № 234. Сборник (Синодик Толгского монастыря). Л. 62). Время его определить трудно и идентифицировать по родословной лиц, внесенных в поминание сложно. Сделан он был во второй половине XVI в. одним из братьев боярина князя Петра Ивановича. Возможно, его старшим братом Василием (Васьяном), бывшим «в чернцех в Корнильеве монастыре». Младшего брата Петра тоже звали Василием 9.
Бездетный.
3/1. КН. ПЁТР ИВАНОВИЧ РЕПНИН (?-1546)
Сын Ивана Михайловича Ивановича, боярин и воевода.10
1515 — 6, на Вошане воев. передов, п., стоял потом на р. Дорогошане, в ожидании прихода казанских людей.[Др. Р. Вив. IX, 192; Милюк. 58,60] 1518—9, стоял в Красном Селе и был одним из воев. в Новгороде-Северск.[d; d, 65]. 1524, весной, в Казанском пох., в конной рати, перв. воев. прав. р. [ПСРЛ. VIII, 270; Крмз. VII, 79, прм. 265]. 1526, янв. 28, на свадьбе Вел. Кн. с Еленой Глинской был у «постели» в мыльне подавал платье Государю [Др. Р. Вив. XIII, 16–18]. В 1526/1527 г. воевода в Серпухове. 1527—9, воев. на Кашире, в Новгороде-Северск. и на Коломе.11 1530, в пох. на Казань, в конной рати, вместе с бр. Василием, воев. прав, р. [ПСРЛ. VIII, 273; Крмз. VII, 92, прм. 302]. В январе 1531 г. второй воевода большого полка в Козельске. В августе 1531 г. отправлен из Каширы в Москву. [Милюк. 85; Др. Рос. Вив. IX, 192]. 1531, октябрь, послан в Нижний, втор. воев. перед, п., потом был воев. на Угре [d, 86, 88; d]. 1533, при нашествии Сафа-Гирея из Коломны идет в Муром втор. воев.[d, 90, 91; d]. 1534, ноябрь, в Литовск. пох. из Можайска был перв. воев. прав, р.[ПСРЛ. VIII, 288; Милюк. 94]. 1535, пожалован в Бояре [Др. Р. Вив. ХХ, 28]. 1536—7, наместник в Рязани, затем втор. воев. больш. п. во Владимире [Милюк. 99—102; Др. Р. Вив. IX, 192] В сентябре 1537 г. в готовившимся походе на Казань был командующим полка правой руки в конной рати. 1538, на Коломне, втор. воев. прав. р. [d, 105—6; d]. В июне 1539 г., июле 1540 г. боярин и второй воевода большого полка в Коломне. [d. 108; d, 198]. В 1543 г. угличский и калужский дворецкий. Боярин и второй воевода большого полка во Владимире в январе 1544 г. (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 56, 58, 60, 62, 70, 73, 76–79, 81–83, 86, 90–92, 94–97, 107; Зимин А.А. 1) Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 53; 2) О составе дворцовых учреждений Русского государства конца XV и XVI в. // Исторические записки. Т. 63. М., 1958. С. 193).
† 1546 г. [Др. р. Вив. XX, 33].
25 мая 1545 г. дал 10 руб. в Тр.-Серг. м‑рь.12
4/1. Кн. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МЕНЬШОЙ РЕПНИН
Сын Ивана Михайловича Ивановича 13 В 1521 г. воевода в Новгороде Северском. В сентябре 1527 г. в момент нападения на Русь крымского царевича Ислама был воеводой в Ростиславле. В августе 1528 г. воевода в Коломне. В 1529 г. воевода в Кашире, затем в Серпухове. В мае 1530 г. в конной рати командовал полком левой руки. Летом 1531 г. воевода в Кашире. В июне 1535 г. в рати из Можайска на Смоленск командовал полком левой руки. В 1536 г. воевода на Угре. В сентябре 1537 г. в планировавшимся походе на Казань должен был командовать передовым полком конной рати (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 67, 71–76, 86, 87, 89, 91, 94).
∞, Софья Юрьевна Ховрина, дочь Юрия Дмитриевича Грязного Ховрина.
XX генерация от Рюрика
5/3. КН. МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ РЕПНИН (?-1565)
боярин, князь, воевода в царствование Ивана Грозного, сын боярина кн. Петра Иванрвича Михайловича.14 Во II ст. Тыс. кн. и Двор. тетр. кн. Оболенский.15 Тысячник 2‑й статьи из Оболенских князей. В Дворовой тетради боярин, также записан среди князей Оболенских (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 57, 112, 118). Боярин с лета 1559 г., либо боярин с марта 1559 г. (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 181; Зимин А.А. Состав Боярской думы в XV–XVI вв. // Археографический ежегодник за 1957. М., 1958. С.69).
1544, в пох. на Казань, был в Государевом п. стольником и есаулом [Др. Р. Вив. ІХ. 133]. 1545, воев. в Пронске [d] Стольник осенью 1546 г. (Назаров В.Д. О структуре Государева двора в середине XVI в. // Общество и государство феодальной России. Сб. статей, посвященный 70-летию академика Л. В. Черепнина. М., 1975. С. 52). 1547, февр. 3, на свадьбе Грозного и Анастасии Захарьиной, был с бр. Юрием «у постели» [Др. Р. Вив. XIII, 32; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 324.]. 1547, дек. 9, подписался на поручной записи по кн. Ив. Ив. Пронском с другими детьми боярскими в 10 тыс. руб.16 В январе 1550 г. в царском походе из Нижнего Новгорода на Казань отмечен среди рынд. [Милюк. 138]. 1550, июля, был рындой в пох. Государя к Коломне [d, 145; Др. Р. Вив, IX, 193]. 1550, сын боярский второй статьи, отчислен в состав столичного дворянства.[Др. Р. Вив. ѴІІІ, 5; Времен. XX, 43]. 1551, воев. в Пронске [Др. Р. Вив. IX. 193]. 1552, при осаде Крымским Ханом Тулы, пришел туда на помощь с Прони [Крмз. VIII, 91. прм. 274]. 1553, с Коломны послан в Одоев в перед. полку [Милюк. 163; Др. Р. Вив. IX, 193]. 1555, март, воевода на Угре. В июле 1555 г. воевода в Карачеве с Угры. В июне 1556 г. в разряде царского похода в Серпухов назван среди стольников в головах. В ноябре 1555 г. в Москве встречал ногайских послов и в декабре доставил их в Москву.17 1557, воев. в Карачеве, потом стоял в Курске и затем во Мценске.[d, 187–8; Др. Р. Вив. XIII, 251–2]. 1557—8, послан перв. воев. в Орешке потом был воев. в Ракоборе [d, 203; d,277—8]. 1558—9, в Ливонском пох. перв. воев. бол. п. и разбивает во многих стычках немцев. Вместе с воеводой кн. Д. И. Курлятевым взяли городок Кавелехт, сожгли Верполь и разбили немцев в самом предместье Ревем, но затем, между Рингеном и Дерптом, был сам разбит Магистром Кетлером.18 В июне 1558 г. встречал Юнус мирзу из Ногаев на Рогожской дороге за посадом под Москвой и проводил его до столицы (Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.) / Сост. Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов. Казань, 2006. С. 271–272). В марте 1559 г. в походе против Девлет-Гирея записан среди бояр, из Москвы сопровождавших царя.19 1560, в пох. из Пскова к Алысту, был перв. воев. лев. р. [Синб. Сб. 1—2; Др. Р. Вив. XIII, 299]. 1562, декабрь, в Полоцк. пох. и при взятии Полоцка, воевода у наряда [Др. Р. Вив. ХІІІ, 330; Синб. Сб. 4; Милюк. 234; Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст) / Подг. текст К. В. Петров. СПб., 2004. С. 33, 34]. 1563, воев. на Луках Великих во главе передового полка.20 1562, март. 20, подписался на поручной записи по кн. Ив. Дм. Бельском в 10 тыс. руб.21 С другими боярами 20 апреля 1563 г. поручился по князе А. И. Воротынском в 15 тыс. руб. (Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 22).
† 1564 г. января 31, казнен ц. Иваном Грозным (Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 543). «Тогда же убиенъ от него князь Михайла, глаголемы Репнинъ, уже в сигклитском сану сущъ. А за что же убиенъ и за якую вину? Началъ пити с нѣкоторыми любимыми ласкатели своими оными предреченными великими, обещаными Дьяволу чашами, идѣже и онъ по прилучаю призванъ былъ: хотяще бо ево тѣмъ аки в дружбу себѣ присвоити. И упившися, началъ искоморохами в машкарахъ плесати, и сущие пирующие с нимъ. Видѣв же сие бесчиние, он муж нарочиты и благородны началъ плакати и глаголати ему, иже нѣ достоитъ ти, о царю християнский, таковыхъ творити. Онъ же начал нудити его, глаголюще: «Веселись и играй с нами», и взявши машкару, класти началъ на лице его. Он же отверже ю и потопта, и рече: «Не буди ми се безумие и бесчиние сотворити, в советническомъ чину сущу мужу!» Царь же, ярости исполнився, отогналъ его ото очей своихъ, и по неколикихъ днях по томъ, в день недѣлный, на всенощном бъдѣнию стоящу ему въ церкви, в часъ чтения евангелского, повелѣлъ воиномъ бѣсчеловѣчнымъ и лютымъ заклати его, близу самого алтаря стояще, аки агнца Божия неповинного» (Сочинения князя Андрея Курбского // Русская историческая библиотека. Т. 31. СПб., 1914. С. 279).
В ящике 215 Царского архива хранилось местническое дело Михаила Репнина с князем Петром Татевым (А. А. Зимин считал, что они местничали в Курске летом 1557 г.) (Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции / Подг. текста и коммент. А. А. Зимина. М., 1978. С. 90, 482, 483, 489).
Упомянут со своими родными в духовной князя Ю. А. Оболенского в 1547–1565 гг. Назван его отец князь Петр Иванович, его сыновья князья Михаил и Юрий (Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 2. М., 1956. № 207). Дочь его Елена была замужем за царем Василием Ивановичем Шуйским.
До 1594, 1595 г. князья Андрей и Михаил Репнины утратили в Волстенском стане Вяземского уезда поместье деревни Муравьево, Павлещев, Бородулино (83 четверти). За князем Михаилом Репниным там же было в поместье сельцо, что была деревня Ермаково с 6 деревнями и пустошью (250 четвертей средней земли) (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 2. СПб., 1877. С. 749, 753).
∞, Мария ..... ..... (? — после 1578). В 1578 г. вдова, за ней с дочерью Анной вотчины в Коломенском у.22 Внесена в синодик Чудова м‑ря.23
Бездетный.
6/3. КН. ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ РЕПНИН (1563)
Сын Петра Ивановича Михайловича 24 В разрядах 1547–1563 гг. Тысячник 3‑й статьи из Оболенских князей. В Дворовой тетради из Оболенских князей (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 61, 118).
1547, февр. 3, сын боярский, на свадьбе царя Ивана Васильевича и Анастасии Захарьиной был с бр. Михаилом «у постели» [Др. Р. Вив. ХIII, 32]. 1547, нояб. 3, на свадьбе кн. Юрия Васильевича с кж. Ульяной Дмитриевной Палецкой, исполнял ту же обязанность [d,38]. 1550, сын боярский 3 статьи, отчислен в состав столичного дворянства [Др. Р. Вив. VIII, 8; Времен. XX, 44] 1557, в Ливонск. пох., с ц. Шиг-Алеем, перв. воев. прав. р.[Др. Р. Вив. XIII, 270; Милюк. 198]. 1562— 3 в Полоцком пох. с Казанскими, Свияжскими и Чебоксарскими людьми, был воев. перед. п., потом втор. воев. бол. п. [d, 329, 334; Милюк. 233, 236; Синб. Сб. 5]. В феврале 1563 г. под Полоцком против войск Гетмана Радзивилла был отправлен во главе большого полка. [Крмз. ІХ, 22].
В феврале 1563 г. умер от болезни (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 200).
До 1594, 1595 г. князь Юрий Репнин утратил в Лосменском стане Вяземского уезда поместье сельцо, что была деревня Юшино на р. Волсте с 5 деревнями (189 четвертей) (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 2. СПб., 1877. С. 767).
Упоминается в духовной князя Ю. А. Оболенского (Пенинского) в 1547–1565 гг. (Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 2. М., 1956. № 207).
Бездетный.
КН. СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ РЕПНИН
Сын Василия Меньшого Ивановича Михайловича.25
7/4. КН. АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РЕПНИН (1544,1578)
Сын Василия Меньшого Ивановича Михайловича.26 В разрядах 1544–1578 гг. В Двор. тетр. кн. Оболенский.27
1544, в пох. на Казань, в войсках, шедших нагорной стороной воев. в перед. п. [Др. Р. Вив. ІХ, 133]. 1562, дек. 23, указано ему в пох. Государя к Полоцку, ездить за ним в качестве рынды [Крмз. IX, 21, прм. 66]. 1563, назначен воев. в Карачев [Др. Р. Вив. XIII, 341; Милюк. 241]. 1566, в бол. п. кн. Ив. Дм. Бельского был полковым воеводой, затем воев. на Михайлове [Ммюк. 260, 264—5; Др. Р. Вив. XIII, 370, 377—8]. 1566, июл. 2, дворянин перв. статьи, подписался на приговорной грамоте избрания об отказе Полякам в перемирии и о продолжении войны [Соб. Гос. гр. и дог. I, 549; Продлж. Др. Р. Вив. VII, 16]. 1567, воев. в Пронске, на случай вторжения Крымцев [Синб. Сб. 18, 21; Др. р. Вив. XIII, 384]. 1569, втор. воев. в Данкове [d, 22; d, 394]. 1570, перв. воев. на Орле, затем примыкает к большому полку и остается воев. в Туле. [d, 24—5; d, 398. 400—2]. 1571, воев. в Путивле [d, 28; d, 414]. 1572, при нашествии Девлет-Гирея пер. воев. лев. р. [d, 36; d, 433]. 1572 на Лопасне воев. в лев. р. и в конце года, в пох. на Эстонию воев. ертоульн. п. [Крмз. ІХ, 118, 128, прм. 388, 412]. 1573, наместник в Путивле [d, 41; d, 440]. 1574, по росписи на берегу, втор. воев. перед, п., а по уходу старших воевод, был перв. воев. сторож .п. [d, 44–5; d, 447]. 1574, в пох. под Пернов, втор. воев. прав. р. и с 1575, іюл. 20, воев. в Пернове, а также и в 1576 г. [d, 48—9, 55, 57; d, 457; XIV, 313, 317]. 4 марта 1576 г. ему и дьяку Василию Алексееву в Пернов адресована указная грамота с предписанием об организации отправки морем имперского посла Даниеля Принца и русского посольства кн. Захария Сугорского (Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными. Т. 1. СПб., 1851. Стб. 624). 1577, нояб. в пох. к Кеси перв. воев. перед, п. [d, 61; d, XIV, 336]. 1578, янв. в Ливонск. пох. 2 воев. сторож. п. [Др. Р. Вив. XIV, 337].
† 1578 г., после 1 февраля.
В 1574/1575 г. по князе А. В. Репнине его сын князь Александр Андреевич Репнин дал Троице-Сергиеву монастырю жеребей села Ивановское на р. Поротве с 11 пустошами на р. Протве (47 четвертей) в Оболенске в Серпуховском уезде (ВКТСМ, с. 99; Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1577, л. 2314–2315; ПКОУ, с. 178). До 1594 г. князья Андрей (Васильевич) и Михаил (Петрович) Репнины утратили поместье в Волстенском стане Вяземского уезда – деревни Муравьево, Павлещев, Бородулино (83 четверти), сельцо, «что была деревня Пруды» с 5 деревнями, деревню Блюхаченка Малая и еще десяток деревень (ПКМГ. Ч. 1, отд. 2, с. 749–753).
∞, Ксения .... ....., уп. в данной грамоте сына кн. Ал-дра Андр. 1574/75 г.
XXI генерация от Рюрика
КНЖ. ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА РЕПНИНА (1550‑е — 1592)
Дочь Михаила Петровича Ивановича. В сент. 1580 г. на свадьбе ц. Ив. Грозного с Марией Фед. Нагой была свахой.
∞, кн. Василий Иванович Шуйский (1552–12.09.1612), русский царь с 1606 по 1610 гг. под именем Василия IV Иоанновича.
КНЖ. АННА МИХАЙЛОВНА РЕПНИНА (* ...., 1578, † ....),
Дочь Михаила Петровича Ивановича. 1578, девица, за ней с матерью, Коломенск. у 1/2 сц. Верховлян, дд. Посыкина, Левонтьева и Лопаково. [Пис. кн. XIV в. I, 514].
8/7. КН. АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ РЕПНИН (* ...., 1574, † 3.01.1612)
Сын Андрея Васильевича Ивановича28 Стольник с 1577 г. В разрядах 1577–1611 гг.
1577, стольник, написан в списке бояр, окольничих и дворян, которые служат изъ выбора 85 года; затем в том же списке, написан Дворянином Московским, с пометкой — «в
Нижнем». [Акт. Moск Гос. I, 39]. 1584, послан был для осмотра сторожевого полка на Коломне и полка левой руки, расположенного на Кашире [Крмз. Х, прм. 133; Др. Р. Вив. IX, 194]. 1593, воев. в Переяславле-Рязанском [Синб. Сб. 127; Др. Р. Вив. IX, 194]. 1594, июл..1, на берегу, указано ему сменить окольнич. кн. Ив. Вас. Гагина, и быть пер. воев. перед. п. [d, 128; d, 194]. 1595, снова в Переяславле Рязанском и в 1597, воев. в Рязани [Др. Р.Вив. IX, 194—5]. 1598, в пох. Годунова к Серпухову был 3 воев. перед. п., а по роспуске старших воевод — перв. воев. того
же п.[Синб. Сб. 135]. 1598, авг. 1 двор. Моск., подписался на грамоте избранія Царем» Бориса Годунова.[Акт. соб. в биб. и арх. II, 43, 50]. 1599, апр. в ожидании Крымск. царя, был воев. сторож, п. [Синб. Сб. 139; Др. Р. Вив. IX, 195]. 1601,воев. в Яранске, подвергся сильному гонению Бориса Годунова, и обвиненный, конечно согласно с желанием последнего, будто бы в произведенных им хищениях, сослан со всей семьей в Уфу. Вот какое несправедливое решение вынесли судившие его: «и бояре, выслушав отписки, приговорили: у кн. Александра Репнина за воровство, что он в Яранском Государеву Цареву и Вел. Кн. Бориса Ѳеодоровича всеа Руссіи казну, денги и изъ житницъ хлѣбъ, рожь и овесъ, кралъ, отчины и помѣстья и дворъ Московскій, и животы, что у него въ вотчинахъ, и въ помѣстьяхъ, и во дворѣ, и съ нимъ на Уфѣ, поимати на Государя Царя и В. К. Бориса Ѳеодоровича всеа Русіи, а ему съ женою и съ дѣтьми быть на УфѢ врядъ» [Акт. Ист. II. 37—9]. 1608—9, воев. в Нижнем Новгороде [d, 137, 141; Акт. соб. въ биб. и арх. II. 204]. 1611, февр. идет с войсками из Нижнего для очищения Москвы от Поляков, и в марте, на пути из Владиміра, подписывается во главе на призывной грамоте,
посланной в Казань [Соб. Гос. гр. и дог. II, № 244; Акт. соб. въ биб. и арх. II, 302, 313, 323]. В 1608—1611 гг.—воевода в Нижнем Новгороде и остался верен царю Василию Ивановичу Шуйскому. Он и товарищ его Алябьев мужественно выдержали осаду Нижнего мятежниками и посылали увещательные грамоты в разные города о присылке ратных людей, чтобы идти «очищать Московское государство от Литвы». 10 марта 1611 года князь Р. и многие другие воеводы выступили из Владимира в Москву.
† 3 янв. 1612 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7120 гаду генваря в 3 день преставися раб божий князь Александр Андреевич Репнин, на память святого пророка Малахии» (ДРВ. Т. 19. С. 348; Леонид. С. 188, № 1).
В 1598 г. князь Феодор Ноготков (так же, как и князь Репнин, происходивший из рода князей Оболенских) подал на князя Р. челобитную царю Борису Годунову; челобитная эта была вызвана тем обстоятельством, что князь Р., назначенный в этом году, по крымским вестям, третьим воеводой в передовой полк, принял назначение, несмотря на то, что боярин князь Ив. Вас. Сицкий был в правой руке в третьих, следовательно, князь Р. согласился стать ниже его; князь Ноготков прибавил в конце челобитной, что сделано это по злоумышлению Феодора Никитича Романова, для «порухи» и «укора» от рода Романовых и многих других родов всему роду князей Оболенских, так как Феодор Никитич Романов, князь Ив. Вас. Сицкий и князь Репнин между собою «братья» и «великие други». Как князь Р. состоял с ними в родстве, мы не знаем, потому что не известно, на ком он был женат, а князь Ив. Вас. Сицкий считался братом Ф. Н. Романова потому, что был женат на его родной сестре, Евфимии Никитичне Романовой. Царь Борис Годунов, выслушав челобитье, велел записать в Разряд, что князь Р. был с князем Сицким в походе по дружбе, и «князь Александр Репнин князю Ивану (Сицкому) виноват один, а роду его всем князем Оболенским в том порухи в отечестве нет никому».
В 1574/1575 г. князь Александр Андреевич Репнин дал по приказу Троице-Сергиеву монастырю жеребей села Ивановское на р. Поротве с 11 пустошами на р. Протве (47 четвертей) в Оболенске в Серпуховском уезде (ВКТСМ, с. 99; Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1577, л. 2314–2315; ПКОУ, с. 178). Был владельцем 1/2 пус. Ватутино (Яковлевское) Моск. у., которая в 1627 г. принадлежала его сыну Петру [Холмог. Чтен. 1892 г. I, 98—100]. За ним же было 1/2 с. Желивы у Оки реки Коломенск. у. [Писц. кн. XVI в. I, 364]
Кн. А. А. Репнин, при царе Борисе, «дружась со князем Иваном Сицким и угождая Федору Никитичу Романову, потому что Федор Романов и князь Иван Ситцкой и князь Александр Репнин меж себя братья и великие друти», не стал местничать с кн. И. В. Сицким, жертвуя во имя дружбы с Романовыми даже местническими интересами рода князей Оболенских.29
∞, Мария. «[7] 122 (1б14)-то году майя в 7 день дали вкладу князь Петр да князь Борис Александровичи Репнины по матери своей княгине Марье денег 50 рублев».30
XXII генерация от Рюрика
9 КН. ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕПНИН (?-27.01.1643)
Сын князя Александра Андреевича Васильевича, боярин.31 В разрядах 1611–1641 гг. 18 марта 1627 г. пожалован из стол, в дв. м., 5 мая 1635 г. в бояре. В 1639 г. управлял приказами Устюжской четверти и Сыскных дел.
Кн. П. А. Репнин был близок к Ф. И. Шереметеву. Его первой супругой являлась дочь Захария Петровича Ляпунова Федора Захарьевна (ум. 10 мая 1632 г.); «был Ляпуновым свой».32 С семьей Ляпуновых был связан боярин Ф. И. Шереметев, сидевший «в отцово место» на свадьбе царевича Михаила Кайбулича с дочерью Григория Ляпунова в феврале 1623 г.33 Второй женой П. А. Репнина была кнж. Ксения Ивановна (ум. 18 декабря 1696 г.), дочь кн. И. П. Буйносова-Ростовского и Марии Семеновны Куракиной. Мария Семеновна, теща П. А. Репнина, была сестрой боярина кн. И. С. Куракина, имевшего тесные связи с Ф. И. Шереметевым. В 1633 г. Ф. И. Шереметев дал вклад по кн. И. С. Куракине и его жене Гликерии в Троице-Сергиев монастырь (Троицкая вкладная. С. 96). Репнин был близок к Шереметеву и по воззрениям на внешнюю политику. Согласно сообщению шведского резидента, «из царских советников двое выделяются своею враждою к Швеции, а именно Федор Иванович Шереметев и Александр Петрович Репнин (вероятно, кн. Петр Александрович Репнин. — А. П.)».34 Связью через брак с Буйносовой П. А. Репнин был породнен также с князьями Шуйскими, Воротынскими, Долгоруковыми и Пожарскими. Дядя Ксении Петровны Репниной (урожд. Буйносовой-Ростовской) кн. Юрий Петрович Буйносов был женат первым браком на дочери кн. Д. П. Лопаты Пожарского Марии (ЛИРО. 1906. Вып. III, С. 28). Родные ее тетки были в замужестве за кн. Алексеем Григорьевичем Долгоруковым (Пелагея Петровна), царем Василием Шуйским (Екатерина Петровна) и кн. И. М. Воротынским (Мария Петровна). Через брак своей дочери кнж. Марии с кн. Иваном Корел-Мурзиным сыном Исуповым35 П. А. Репнин сблизился с боярином кн. Ю. Я. Сулешевым, который значится в источниках «дедом» Исупова,36 и завещал своему «внуку» основную часть своих вотчин.
1611, стольник, находился в Нижнем Новгороде [Др. Р. Вив. IX, 195]. 1618, при осаде Москвы, был при ее защите и жалован за службу [d]. 1618, за обеденным столом Государя «вина наряжал» [Дв. Раз. I, 325]. 1621, мая 13, при посещении Английского посла ездил его подчивать [d, 474] 1621, сент. 21, ездил от Патриарха к Турецкому послу со столом [d, 490]. 1624, сент. 19, и 1626, февр. 5, на обеих свадъбах Государя был в числе поезжан [Дв. Раз, I, 635, 775; Др. Р. Вив. XIII, 138, 160]. 1625, март, назначен перв. воев. в Переяславль-Рязанский и в случае прихода крымцев на Рязанские места, воеводы из Михайлова, из Пронска и из Тулы должны были быть в сходе в Переяславле-Рязанском с князем Репниным; если же, напротив, крымцы придут к Туле, Мценску, Орлу, Новосилю, Черни или Одоеву, а к Рязани не придут, то князь Репнин должен был идти на Тулу-помогать князю Катыреву-Ростовскому.[Раз. кн. I, 1052; Дв. Раз. I. 667–9]. 1625, окт. 2, отпущен в Москву наравне с остальными большими полковыми воеводами Украинного Разряда.[Дв. Раз. I. 755].
В марте 1625 г. во время службы в г. Михайлове с кн. Ф. Ф. Волконским местничал Ульян Ляпунов, который за бесчестье Волконского и неявку к нему на службу был посажен в тюрьму. Владимир Прокопьевич и Ульян Семенович Ляпуновы оспаривали само княжеское происхождение Волконских, «называя их всех выплятками, что они пошли от девки, а князи по речке по Вол конке». Местнические притязания Ляпуновых поддерживал главный воевода рязанского украинного разряда стольник кн. П. А. Репнин, который был «Ляпуновым свой, потому что Захарьева дочь Ляпунова за князь Петром, а Володимеру и Ульяну Ляпуновым сестра». Опасаясь «недружбы» со стороны Репнина, «либо князь Петр станет за Ляпуновых ему мстить» родственник Ф. Ф. Волконского кн. И. Ф. Чермной Волконский добился от государя своей отставки от должности второго воеводы в Переславле- Рязанском.37
В 1625 и 1626 г., на обеих свадьбах царя Михаила Федоровича, князь Репнин был в числе поезжан. 1627, март. 18, пожалован из стольников в Московск. дворяне и в день Светлого Христова Воскресения ударил государю челом «в комнате»; поместный оклад его был 600 чети, а денежный — 50 руб. [Рус. Ист. Биб. IX. 473; Дв. Раз. I. 905]. 1627 — 30, исправлял исключительно всевозможный придворные должности и часто обедал за царским столом [Дв. Раз. I, 905‑1027; II, 7—210]. В 1628 г. присутствовал при приеме кизилбашских купцов, а в 1631 г.-при приеме шведского посла Антона Монира. 1632, март. 11 — 1633, янв. 18, воев. на Луках Великих [Барс. Гор. В. 128, 554; Акт. Моск. Гос. 1,465]. 1632, нояб. 23, он был полковым воеводой на Луках-Великих и посылает Государю известие, что Литовских людей побили, и острог в г. Невеле взяли, а 25 числа извещает и о взятии самого Невеля [Дв. Раз. II, 301—2]. 1633, янв. 18, Государь посылает к нему на Луки свое жалованное слово и золотые [d, 313].
5 мая 1635 г. был пожалован в бояре П. А. Репнин; правда, боярство ему в тот день сказано не было, поскольку назначенный сказывать боярство Репнину кн. И. А. Голицын по местническим соображениям отказался от возложенного на него поручения; окончательно П. А. Репнин получил чин боярина месяц спустя, 4 июня 1635 г.38 Летом 1635 г., вскоре после пожалования в бояре, П. А. Репнин был отправлен на воеводство в Новгород, где служил до 1637 г.39 Он должен был следить, чтобы в Новгород не являлись шведские перебежчики и чтобы никто из иноземцев, без разрешения, не смел ехать в Москву; сам он не мог дать такого разрешения и должен был для каждого отдельного случая испрашивать дозволения у царя Михаила Федоровича. В бытность князя Репнина в Новгороде сделаны были исправления крыши городовой стены на Софийской стороне, на Каменном городе, срублен городок с башнями возле каменных ворот, по направлению к реке Волхову, и вычищен тайник; вся работа вместе с материалом стоила 170 руб. По-видимому, князь Репнин был человек заботливый и исполнительный; это можно, между прочим, заключить из постоянных сношений его с жившим в Новгороде приказчиком голландского купца, продававшим ему ядра для разных пищалей.[d, 469]. 1637, авг. все еще воев. в Новгороде [Акт. до юрид. б. I, 156; Дв. Раз. II, 549].
После этого он до своей кончины в 1643 г. служил преимущественно на Москве. В 1638–1639 гг. П. А. Репнин являлся главой Сыскного приказа, занимавшегося сыском посадских тяглецов.40 25 мая 1639 г. во главе приказа Сыскных дел по сыску посадских людей на место П. А. Репнина было указано быть его брату кн. Б. А. Репнину.41 Реально П. А. Репнин продолжал оставаться в приказе и в июне 1639 г., когда его сменил брат Б. А. Репнин.42 Впоследствии П. А. Репнина в данном Сыскном приказе сменил его брат Борис. Осенью 1638 г. — марте 1639 г. П. А. Репнин вместе с дьяками Пантелеем Чириковым и Емельяном Евсевьевым стоял во главе Приказа сбора ратных людей;43 приказ этот действовал, очевидно, на базе Устюжской чети44 — дьяки П. Чириков и М. Неверов, а также сам П. А. Репнин (январь 1639 г.) действительно состояли в то время в Устюжской чети.45 30 апреля и 1 мая 1639 г. П. А. Репнин вместе с дьяком В. Прокофьевым упоминается судьей Сыскного приказа, из которого «для вершения вотчинного дела» был подан запрос в Посольский приказ о купленных и закладных вотчинах служилых «немцев».46
1639, март, в ожидании прихода Крымцев назначен воев. в Переяславль-Рязанский [Дв. Раз. II, 605; Рус. Ист. Биб. X, 190]. В 1639 г., в январе, он дневал и ночевал при гробе царевича Ивана Михайловича, а затем при гробе царевича Василия Михайловича; в том же году был по крымским вестям в Переяславле Рязанском, а в 1640 г., по царскому указу, распустил ратных людей и вернулся в Москву. [Дв. Раз. II, 570—968; III, 385 — 6; Рус. Ист. Биб. X. 137—284].
† 27 янв. 1643 г. □ Боровский Пафн. м‑рь. 22 «Лета 7151 году генваря в 27 день на память преподобного отца нашего Ефрема Сирина преставися раб божий боярин князь Петр Александрович Репнин».47 Родовые владения Репниных располагались не в Оболенском, а в соседнем Боровском у. В писцовой книге Боровского у. 1629–1630 гг. в Щитовском ст. за кн. П. А. Репниным значилась старинная вотчина д. Шубина на р. Моче (90 четв.) В 1613/14 г. кн. П. А. Репнин продал кн. Ал. Д. Приимкову-Ростовскому вотчину в Кашинском у. в ст. Меньшая Слободка (с. Турово на р. Яхроме, 260 четв.).48
Благодаря близости ко двору кн. Репнины жалуются вотчинами своих сородичей — князей Оболенских. В писцовой книге Коломенского у. 1627–1628 гг. в Оглоблинской вол. за П. А. и Б. А. Репниными числилась бывшая вотчина вдовы кн. Михаила Петровича Репнина (их троюродного деда) кнг. Марии (первому принадлежала половина с. Верховля, 258 четв., второму — д. Посыкино и др., 306 четв.).49) По всей видимости, эта коломенская вотчина была пожалована П. А. и Б. А. Репниным уже после 1613 г., поскольку в 1613 г. за П. А. Репниным числилось только 134 четв. вотчинной земли. Но особенно щедрые пожалования Репниным «родительских» вотчин наблюдаются во второй половине 30‑х — начале 40‑х гг., когда происходит стремительное возвышение Б. А. Репнина. 12 сентября 1637 г., как мы видели, кн. П. А. и Б. А. Репнины были пожалованы выслуженными вотчинами их «брата», кн. В. И. Туренина- Оболенского (последнего предствителя рода Турениных) в Кашинском и Веневском у., а к кн. П. А. Репнину перешла родовая вотчина В. И. Туренина в Оболенском у. (села Хрусталь и Поречье с деревнями и пустошами). В августе 1640 г. братья П. А. и Б. А. Репнины были пожалованы за службу их отца кн. А. А. Репнина (за Нижегородское осадное сидение при царе Василии) вотчинами по 100 четв. (с поместного оклада отца в 1000 четв.; сам кн. А. А. Репнин, вотчину «взять не успел») — П. А. Репнин был пожалован вотчиной из его вологодского поместья (в Федосеевской вол.), кн. Б. А. Репнин — вотчиной из его поместья в Нугорском ст. Волховского у. (с. Емандыково и слободка Филимонова).50 Упомянутое поместье в Федосеевской вол. Вологодского у. (данное из дворцовых сел) по дозорным книгам 1615 и 1616 гг. принадлежало обоим братьям, по 127 четв. каждому (ПК 59. Л. 123; ПК 62. Л. 1858), а в писцовой книге 1628–1629 гг. значится за одним П. А. Репниным (ПК 14720. Л. 604). Согласно послушной грамоте, данной в 1643 г. П. А. Репнину на его владения в Федосеевской вол. Вологодского у., за ним числилось в вотчине д. Шекша, 220 четв., и в поместье д. Полежайка, 116 четв. (РГАДА. Ф. 233. Кн. 670. Л. 222).
Интересна история болховского владения кн. Репниных, с. Емандыки. В дозорной книге Болховского у. 1619/20 г. пуст., что было село Емал(н)дыки в Нугорском ст. (401 четв.) числилось за братьями П. А. и Б. А. Репниными как вотчина (РНБ. OP. F.IV. № 375. Л. 44 об.). Однако в платежнице 1628–1629 гг. в Нугорском ст. вотчин за кн. Репниными не упоминается, а упоминается лишь поместье одного кн. Б. А. Репнина (село и 4 деревни; названия этих селений не указаны: ПК 409. Л. 724). Можно предположить, что болховское с. Емандыки было пожаловано за службу кн. А. А. Репнину, а впоследствии его сыновья пытались закрепить эту вотчину за собой. Но, поскольку их отец реально вотчиной не владел («взять не успел»), то П. А. и Б. А. Репнины были лишены права владеть этой вотчиной, которая была переведена им в поместье. И лишь в 1640 г. братья Репнины были официально пожалованы вотчинами за службу их отца. Известно, что братья кн. П. А. и Б. А. Репнины в сентябре 1626 (7135) г. полюбовно разделили между собой вологодское и болховское поместья (Сторожев В. Н. Материалы Поместного приказа. Стб. 369).
Кн. П. А. Репнин владел упомянутыми выше старинными вотчинами в Боровском и Кашинском у., пожалованной ему вместе с братом вотчиной в Оглоблинской вол. Коломенского у. (половина с. Верховля, 258 четв., бывшей некогда за вдовой кн. М. П. Репнина кнг. Марьей), пожалованной ему родовой вотчиной умершего сородича кн. В. И. Туренина в Оболенском у. (села Хрусталь и Поречье с деревнями и пустошами), данными ему вместе с братом Борисом выслуженными вотчинами В. И. Туренина в Кашинском и Веневском у., пожалованной ему за службы отца вотчиной в Вологодском у. Упоминаются также его приданая вотчина в Городском ст. Ярославского у., данная ему в 1635 г. тестем, кн. Иваном Петровичем Буйносовым-Ростовским, за его дочерью Ксенией.1038 За кн. П. А. Репниным значились старое отцовское поместье в Сосенском ст. Московского у., (половина пустоши Ватутиной- Яковлевской, 68 четв.), которое при нем становится вотчиной,1039 и упомянутое выше поместье в Федосеевской вол. Вологодского у.1040 По материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за кн. П. А. Репниным числилось 1101 четв. поместной и вотчинной земли «в городах» (и 102 двора) и, кроме того, приданая вотчина, полученная около 1638 г. от тестя, кн. Ивана Петровича Буйносова-Ростовского (28 дворов).1041 Согласно книгам Печатного приказа, в 1643 г., после смерти П. А. Репнина (27 января 1643 г.) его вотчины в Оболенском (272 четв.), Веневском (84 четв.) и Вологодском (222 четв.), а также поместье в Вологодском у. (в Федосеевской вол. д. Полежайка, 116 четв.), всего 694 четв. поместной и вотчинной земли были даны его вдове кнг. Аксинье Ивановне с сыном Иваном и дочерью Акулиной.51 В родословцах кн. П. А. Репнин показан бездетным (Бархатная книга. С. 123; Родословец М. А. Оболенского. С. 63) и о нахождении и службе кн. И. П. Репнина при дворе мы не встречаем упоминаний в источниках. У Г. А. Власьева указана дочь Б. А. Репнина кнж. Анна, а не Акулина.
1038 ЗВК. С. 387; Власьев Г. А. Т. I. Ч. 2. С. 422. 1039 ПК 9808. Л. 13 об.; Холмогоровы. Вып. VIII. С. 99; Шватченко О. А. Вотчины (1996). С. 101. 1040 ПК 59. Л. 123; ПК 62. Л. 1858; ПК 14720. Л. 604. 1041 РГАДА. Ф. 137. Москва. № 2. Л. 21.
1637, дана ему вотчина кн. Вас. Ивановича Туренина, Веневск. у. д. Свиридова. Эта вотчина в 1643 г. отдана жене его, вдове кн. Ксении с детьми: кн. Иваном и дочерью кж. Анной [Тула, ст. кн. 14364, д. 1]. 1638, ему с бр. Борисом, дана вотчина «деда» их бояр. кн. Дм. Ив. Немого-Телепнева-Оболенского, Оболенс. у. с. Ильинское, пп. Дурово, Халево, Ханитино и Макаровская. 1674, вотчина его с. Хрусталь с дд. дана визжу его, кн. Сем. Ив. Юсупову [Колмн. ст. кн. 49, д. I].
«[7] 122 (1б14)-то году майя в 7 день дали вкладу князь Петр да князь Борис Александровичи Репнины по матери своей княгине Марье денег 50 рублев».52
∞, 1°, Феодора Захаровна Ляпунова (? — 10.05.1632), дочь Захара (Захария) Петровича Ляпунова. д. Захара Петр, f 10 мая 1632 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7140 маня в 10 день, на память святого апостола Симона, преставися раба божия, боярина князь Петра Александровича Репнина княгиня Феодора Захарьевна».53
∞, 2°, 1635, кнж. Ксения Ивановна Буйносова-Ростовская (? — 18.12.1697), дочь кн. Ивана Петровича Буйносова-Ростовского и кнж. Марии Семеновны Куракиной. В 1646 г. за ней мужняя вотчина Обол. у. сц. Хрусталь 54. † 18 дек. 1696 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7205 году, декемврия в 18 день, на память святого мученика Севастиана и дружины его, преставися раба божия, боярина князя Петра Александровича Репнина боярыня княгиня Ксения Ивановна, и погребена зде, во обители Рождества пресвятые Богородицы, преподобного отца Пафнутия Боровского, того ж месяца в 22 день, на память святые великомученицы Анастасии Узорешительницы» (ДРВ. Т. 19. С. 35Ф-351; Леонид. С. 190, № 11).
Бездетный
10 КН. БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕПНИН, ПР. КЛЮКВА55 (?-27.05.1670)
Сын Александра Андреевича Васильевича.56 Боярин (с 1639 г.) и воевода. Видный политический и военный деятель. Любимец царя Михаила Федоровича, который возвел его прямо из стольников в бояре, минуя чин окольничего.
Заслуживает внимания позднейшая (1672 г.) челобитная сына кн. Б. А. Репнина Ивана Борисовича Репнина, в которой он сообщает о своем отце, что тот «своего дому не знал, а не искал ни в ком помощи, опричь вашей государской милости. И за то многую принял ненависть и огласку и терпенья».57 Под словами «дому своего не знал» подразумевалось, очевидно, то, что Б. А. Репнин в детстве жил не в своем дому, а в царском Дворце. Его отец кн. Александр Андреевич Репнин умер 3 января 1612 г.,58 когда его сын Борис был еще совсем ребенком. По-видимому, вскоре по вступлении на престол Михаила Федоровича малолетний князь-сирота и был взят на житие во Дворец. 17 мая 7122 (1614) г. Борис Репнин был пожалован сукном и тафтой по приказу государыни старицы Марфы (РИБ. Т. IX. С. 290). Начиная с 1617 г. он часто получает пожалования из Казны по государеву именному приказу и распоряжается во Дворце (приказывает «государевым словом», относит «в верх», в царские хоромы различные вещи).59 7 февраля 1617 г. «государь царь и великий князь Михаил Федорович всеа Русии пожаловал жильца князя Бориса Репнина, дано ему государева жалованья полшеста аршин камки...».60 В осадном списке 1618 г. он значится под рубрикой «Стольники ж, которые малы, по полком были не росписаны, а были в верху у государя и в [ъ] сполохи в полки ездили собою» (РГАДА. Ф. 388. № 828. Л. 267). К марту 1624 г. он становится комнатным стольником (спальником).61 Выполнял придворные стольничьи обязанности, в том числе характерные для спальников службы — во время царских столов «пить наливал государю».62 1624, сент. 19, на свадьбе Государя — «нес подножие». 1626, февр. 5 на другой свадьбе был в числе поезжан и находился в мыльне [Др. Р. вив. XIII, 143, 160; Дв. Раз. I, 637, 775, 785; Соб. Гос. гр. и дог. III, № 72]. 1630—38 находился на дворцовой службе [Дв. Разр. II, 173—645; 839, 870].
Стремительный взлет карьеры Б. А. Репнина начинается с 1638 г. В апреле 1638 г. он заменил у руководства важными дворцовыми приказами (Оружейным приказом, Золотой и Серебряной палатами, Иконным приказом), а также в Новой чети, важном финансовом приказе, родственника царицы Евдокии Лукьяновны окольничего В. И. Стрешнева, отправленного на «береговую» службу на Тулу вместе с боярином кн. И. Б. Черкасским. В Иконном приказе 16 апреля 1638 г. сидел еще В. И. Стрешнев, а 27 апреля упоминается Б. А. Репнин — см.: Богоявленский С. К. С. 71. В Золотой палате 20 февраля 1638 г. находился В. И. Стрешнев, а 26 мая упоминается Б. А. Репнин (Там же. С. 70; РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 629. Л. 803). В Серебряной палате 20 февраля упоминается Стрешнев, а 30 апреля — Репнин (Богоявленский С. К. С. 156). В Оружейном приказе 28 января 1638 г. упоминается Стрешнев, а 26 июня — Репнин (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 293. Л. 120, 257 об.; Богоявленский С. К. С. 106). В Новой чети 4 апреля 1638 г. упоминается В. И. Стрешнев и тогда же (4 апреля) — Б. А. Репнин (Богоявленский С. К. С. 100).
Вполне вероятно, что за спиной Б. А. Репнина стояла влиятельная и могущественная придворная группировка. По-видимому, неслучайно стремительное возвышение Б. А. Репнина и его назначение главой важных дворцовых приказов, ведомых ранее В. И. Стрешневым, в апреле 1638 г. совпало с отъездом главы правительства кн. И. Б. Черкасского на воеводство в Тулу и временным его замещением на посту московского правительства Ф. И. Шереметевым. Тогда же к апрелю 1638 г. вернулся в Москву с воеводства в Новгороде брат Б. А. Репнина Петр,1018 назначенный в этом же году на важный пост главы Сыскного приказа, ведавшего сыском посадских тяглецов. Характерно, что если ведомые И. Б. Черкасским приказы (Большой казны, Стрелецкий, Иноземский, Аптекарский), перешедшие на время его службы в полках под управление Ф. И. Шереметева, после возвращения Черкасского в Москву, как мы отмечали выше, вновь возвращаются (за исключением Аптекарского приказа) под его управление, то по возвращении в Москву В. И. Стрешнева ведомые им прежде приказы (Оружейный приказ, Золотая и Серебряная палаты, Иконный приказ и Новая четь) продолжали оставаться за Репниным.63 В. И. Стрешнев, таким образом, был прямо оттеснен в 1638 г. от управления группой важнейших дворцовых приказов новым царским фаворитом Б. А. Репниным.
То обстоятельство, что В. И. Стрешневу, отправленному в полки на Тулу вместе с И. Б. Черкасским, не вернули по возвращении в Москву управляемых им прежде приказов, свидетельствует о спланированной против него интриге. Вся полнота власти в тот период находилась в руках И. Б. Черкасского и Ф. И. Шереметева и, по всей вероятности, именно в этой правительственной группировке старых бояр романовского круга, стремившихся сохранить свое господствующее положение при дворе (занимаемое ими со времени правления Филарета), могли зародиться планы ограничения влияния новой придворной знати, группировавшейся вокруг царицы Евдокии Стрешневой и царевича Алексея. Можно предположить, что стремительное возвышение Б. А. Репнина в конце 30‑х — начале 40‑х гг. и было обусловлено поддержкой его со стороны бояр этой старой романовской группировки. По своему происхождению Б. А. Репнин принадлежал к тому же кругу, что и бояре Черкасский и Шереметев. Его отец, кн. А. А. Репнин, при царе Борисе, «дружась со князем Иваном Сицким и угождая Федору Никитичу Романову, потому что Федор Романов и князь Иван Ситцкой и князь Александр Репнин меж себя братья и великие друти», не стал местничать с кн. И. В. Сицким, жертвуя во имя дружбы с Романовыми даже местническими интересами рода князей Оболенских.64 В царствование Годунова А. А. Репнин вместе с Романовыми, Черкасскими и прочими боярами романовского круга подвергся репрессиям и ссылке. Связи с боярами романовского круга поддерживали и сыновья А. А. Репнина. Кн. Б. А. Репнин, очевидно, состоял в каком-то родстве с кнг. Еленой Борисовной Хворостининой, женой кн. Ф. Ю. Хворостинина и дочерью боярина кн. Б. М. Лыкова.65 В близких отношениях Б. А. Репнин состоял с кн. Алексеем Никитичем Трубецким (впоследствии видным придворным времени царствования Алексея Михайловича), который выступал в качестве его душеприказчика в декабре 1644 г. (когда Репнин находился на воеводстве в Астрахани) при продаже его вотчины.66 Сын Б. А. Репнина Иван был женат на дочери Никифора Юрьевича Плещеева и Мавры Осиповны (дочери Осипа Григорьевича Грязнова) Евдокии, родная сестра которой Мария была замужем за царевичем Василием Араслановичем (Сеид-Бурханом) Касимовским,67 близким к семье Романовых — тетка царя Михаила Ирина Никитична Годунова завещала царевичу Сеид-Бурхану свою вотчину.68 Выше мы говорили о близости брата Б. А. Репнина Петра к боярину Ф. И. Шереметеву.
Свидетельством особого, исключительного положения Б. А. Репнина при дворе может служить тот факт, что он, еще будучи комнатным стольником, на Рождество Христово (25 декабря) 1639 г. был удостоен чести «лехчить (стричь) волоски» у царя.69 Следует отметить, что подобного рода почетную обязанность выполняли первые лица в правительстве — боярин Б. М. Салтыков (в начале царствования Михаила Федоровича), а затем — боярин кн. И. Б. Черкасский. 6 января 1640 г. Б. А. Репнин был пожалован из комнатных стольников в бояре.70 Как один из виднейших деятелей правительства Репнин имел возможность влиять на продвижение при дворе своих родственников и сторонников. Очевидно, неслучайно в окольничие 27 апреля 1641 г. был пожалован близкий к Б. А. Репнину человек (очевидно, его тесть) Мирон Андреевич Вельяминов, прежде малозаметный на государевой службе (см. выше). В комнатные стольники в начале 1640‑х гг. были пожалованы оба сына Б. А. Репнина — Иван и Афанасий Борисовичи Репнины.
Как боярин Б. А. Репнин неоднократно присутствовал за царскими столами, участвовал в царских походах по монастырям, оставлялся на Москве в отсутствие государя.71 В 1639–1643 гг. Б. А. Репнин, сменив своего брата Петра, руководил вместе с дьяком Миной Грязевым Приказом сыскных дел, занимавшимся сыском и вывозом беглых посадских людей и закладчиков.72 Данный Б. А. Репнину в 1639/40 г. наказ, разработанный, вероятно, в Боярской думе (во главе которой стоял кн. И. Б. Черкасский, являвшийся одним из крупнейших дворовладельцев), ограничивал, по сравнению с предыдущими наказами, уступки посадским людям, однако под давлением обстоятельств Репнин отступил от наказа и был вынужден ущемлять «сильных людей.73 В 1642–1643 г. Б. А. Репнин вместе с дьяком Ст. Угоцким и 9 подьячими (а в марте 1643 г. в товарищи к Б. А. Репнину был назначен стольник Григорий Гаврилович Пушкин) являлся главой Приказа приказных дел, руководившего работами по возобновлению росписи («стенного письма» ) Успенского собора Московского Кремля.74 В 1640–1643 гг. Б. А. Репнин возглавлял сыскную комиссию (Счетный, или Сыскной приказ в составе думного дьяка М. Данилова и дьяка И. Переносова) по расследованию злоупотреблений в приказе Сбора ратных людей; как было отмечено, следствие не затронуло деятельности самого главы приказа боярина И. П. Шереметева, несмотря на то что многие улики указывали на его причастность к злоупотреблениям.75 В начале 1640‑х гг. упоминается Сыскной приказ в составе боярина кн. Б. А. Репнина, окольничего кн. Ф. Ф. Волконского и дьяка М. Данилова.76 1 мая 1642 г. Репнин получил наказ ехать в Тверь «сыскивать руды золотые» вместе с Ф. В. Клепиковым-Бутурлиным и дьяком Назаром Чистым.77 15 июля 1642 г. упоминается особый Приказ рудного сыска, возглавляемый Б. А. Репниным вместе с И. П. Матюшкиным (женатым на сестре царицы Евдокии Лукьяновны) и дьяком Н. Чистым.78 В литературе высказывалось мнение, что отправка Б. А. Репнина в Тверь для сыска руды была проявлением царской немилости.79 Однако Репнин продолжал пользоваться огромным влиянием при дворе и позднее. Показателем особого расположения к Б. А. Репнину и его брату Петру при царском дворе в 1637–1643 гг. могут служить щедрые пожалования им «родительских» вотчин, т. е. вотчин сородичей — князей Оболенского рода. 12 сентября 1637 г. братья были пожалованы выслуженными вотчинами «брата» их кн. В. И. Туренина- Оболенского (последнего предствителя рода Турениных) в Кашинском и Веневском у.; родовая вотчина кн. В. И. Туренина в Оболенском у. (села Хрусталь и Поречье) была отдана кн. П. А. Репнину; в августе 1640 г. братья были пожалованы за службу их отца кн. А. А. Репнина (за Нижегородское осадное сидение при царе Василии) вотчинами в Вологодском и Волховском у.; 4 июня 1641 г. Б. А. Репнину была дана грамота на старинную вотчину его «деда» боярина кн. Дмитрия Ивановича Немого Телепнева Оболенского в Оболенском у., бывшей после кн. Д. И. Немого в дворцовых селах, а затем в поместной раздаче; по жалованной грамоте от 31 марта 1643 г. Б. А. Репнину были даны на выкуп из Троице-Сергиева монастыря крупная родовая вотчина его «прадеда» кн. Ивана Федоровича Овчинина-Оболенского, а также родовая вотчина его отца, кн. А. А. Репнина, которую А. А. Репнин в 1574/75 г. дал в Троице-Сергиев монастырь. В конце 30‑х — начале 40‑х гг. Б. А. Репнин активно приобретал вотчины в различных уездах. Приобретал он и дворы в Москве. В 1638/39 г. он купил 6 дворов на Никицкой ул. возле церкви Дионисия Ареопагита.80 По соседству с Б. А. Репниным в приходе церкви Дионисия Ареопагита располагались дворы И. Н. Романова (а затем его сына Никиты) и кн. Ф. Ф. Волконского.81
Усиление влияния Б. А. Репнина при дворе сопровождалось егоконфликтами не только со Стрешневыми, но и с лицами, близкими к боярину Б. И. Морозову. В октябре 1640 г. боярин кн. Б. А. Репнин с дьяками М. Грязевым и Пахомом Лучниковым возглавлял следственную комиссию о «ведовстве и воровстве» Левонтья Степановича Плещеева (известного впоследствии судьи Земского приказа, убитого во время московского восстания 1648 г.), его сына Ивана и их товарищей.82 Л. С. Плещеев был женат на сестре П. Т. Траханиотова (также убитого впоследствии во время восстания 1648 г.) Ирине Тихоновне,83 а через Траханиотова состоял в родстве с Б. И. Морозовым. Кн. Б. А. Репнин писал позднее, что было у него «сыскное дело Левки Плещеева да сына его Ивашка в ведостве и в коренье и в подписке, что он Левка к себе приводил ведунов и подпищиков, а сын его Ивашко ведовал и письма и коренья всякие воровские у себя держал... и он Левка и сын его Ивашко пытаны, и сын его Ивашко к казни привожен...».84 В ноябре 1640 г. Л. С. Плещеев подвергся опале, был взят за пристава и сослан в Сибирь, в Пелым.1028 Вместе с ним в Сибирь в опале был сослан его сын Иван.1029 Можно предположить, что Л. С. Плещеев и его сын обвинялись в каких-то действиях, направленных против царицы Евдокии Лукьяновны и ее родни. Намеки на это содержатся в другом следственном деле, которое вел тот же боярин Б. А. Репнин. Весной 1642 г. Б. А. Репнину было поручено (вместо заболевшего И. Б. Черкасского) расследовать дело слуги И. Ф. Стрешнева Афонки Науменка в намерении «портить и уморить царицу». Среди тех, кто «научал» его «испортить царицу», Афонка называл Леонтия Плещеева и Федора Долматова-Карпова.1030 Показания слуги относительно Л. С. Плещеева и Ф. Б. Долматова- Карпова, данные под пытками, едва ли можно полностью принимать на веру. В то же время упоминание им имен именно этих двух придворных является, по-видимому, неслучайным — и Л. С. Плещеев, и Ф. Б. Долматов-Карпов принадлежали к кругу лиц, близких к Б. И. Морозову: Л. С. Плещеев приходился родственником Морозову, а Ф. Б. Карпов являлся помощников Морозова по воспитанию (вторым «дядькой») царевича Алексея. Характерно, что следователей по делу Афонки Науменка (Б. А. Репнина с тов.) особо интересовал вопрос, кто из ближних людей, связанных с двором, был замешан в деле.1031 Показания Афонки Науменка, даваемые им в ходе следствия, не были беспочвенными. Л. С. Плещеев действительно полтора года назад, как мы видели, попал под следствие, был обвинен «в ведостве и в коренье» и сослан в Сибирь. Согласно челобитной пелымского воеводы Ивана Леонтьевича Скобельцына, Л. С. Плещеев, будучи в ссылке, творил всяческие безобразия, и 23 августа 1642 г. царь, слушав дело, «велел Левонтья Плещеева за его прежнее и нынешнее воровство, что он в Нарымском зернью играет и воевод и служилых людей и пристава лает и бьет, в Нарымском посадить в тюрьму до своего государева указу». Наказания Л. С. Плещееву на этом не ограничились. Как сообщал в своей челобитной тот же И. Л. Скобельцын, ссыльный Л. С. Плещеев заявлял ему, что «сослан де он от недруга своего от боярина от князь Бориса Александровича Репнина, и как де я буду на Москве, и я де ему самому то сделаю (т. е. отомщу. — А. П.)». Слова эти стали известны Репнину, который подал челобитную о бесчестье, и 29 августа 1642 г. последовала царская грамота в Пелым воеводе И. Л. Скобельцыну с указанием «за бесчестье боярина нашего князя Бориса Александровича Репнина Левку Плещеева бить батоги нещадно... а, бив батоги, по прежнему нашему наказу велеть его в Нарымском посадить в тюрьму до нашего указу».1032 Очевидно, Л. С. Плещеев был лишен и московского чина (чина московского дворянина) — с пометами о ссылке в Сибирь за опалу он упоминается в боярских списках 1640/41 и 1642/43 гг.,1033 но уже в «подлинных» боярских списках 1643/44–1644/45 гг. его имя отсутствует. Позднее, по вступлении на престол царя Алексея Михайловича (не без влияния Б. И. Морозова), дело Л. С. Плещеева было пересмотрено, и осенью 1646 г. прощенный Плещеев уехал из Сибири в столицу.1034
1028 РГАДА. Ф. 210. Оп. 17. № 45. Л. 96; Оп. 9. № 166. Столпик 6. Л. 156; Боярская книга 1639 г. С. 96. — А. Н. Зерцалов полагает, что было два брата с именем Леонтий, один из которых был сослан в 1640 г. в Нарымский острог, а другой являлся известным руководителем Земского приказа, убитым во время Московского восстания 1648 г. (Зерцалов А. Н. О мятежах... С. 16). Но родословные росписи Плещеевых в интересующем нас колене знают имя только одного Леонтия Плещеева — Леонтия Степановича. О том, что нарымский ссыльный 1642–1647 гг. и начальник Земского приказа 1648 г. — одно и то же лицо, см. также: Золъникова Н. Д. «Нарымское дело» 1642–1647 гг. // Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск, 1982. С. 212. 1029 РГАДА. Ф. 210. Оп. 17. № 45. Л. 22; Оп. 9. № 1064. Столпик 1. Л. 23; № 182. Столпик 2. Л. 32; № 166. Столпик 6. Л. 172; № 216. Л. 144. В ссылке в Сибири он и умер в 1644/45 г. (РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 184. Л. 14). 1030 Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц. С. 440–441. 1031 Там же. С. 440
1032 Зерцалов А. Н. О мятежах... С. 186–191. Известно, что недругами Л. С. Плещеева и его братьев Семена и Ивана были начальники Поместного приказа кн. А. В. Сицкий и Я. М. Боборыкин (Сторожев В. Н. Материалы Поместного приказа. Стб. 75), люди близкие к И. Н. Романову. 1033 РГАДА. Ф. 210. Оп. 17. № 45. Л. 96; Оп. 9. № 1064. Столпик 1. Л. 50; № 182. Столпик 2. Л. 53. 1034 Золъникова Н. Д. «Нарымское дело»... С. 222–223. — Желая отомстить нарымскому воеводе И. Л. Скобельцыну за свое унижение в ссылке, Л. С. Плещеев подговорил его племянника Савву Скобельцына доносить царю на своих дядей Ивана и Федора Скобельцыных, что будто они «хотели извести государя царя и великого князя Алексея Михайловича» (Зерцалов А. Н. О мятежах... Приложение II. С. 116–185).
Стремительное возвышение Б. А. Репнина и его политическая активность вызывали недовольство и раздражение в определенных кругах придворной знати. В конечном счете врагам Репнина удалось добиться его удаления из Москвы и отправки его под предлогом недопущения «отложения» ногайских татар от России на воеводство в далекую Астрахань в 1643 г. А. П. Барсуков указывает, что Б. А. Репнин находился в Астрахани уже 28 ноября 1642 (7151) г. (Барсуков А. П. Списки. С. 9). Но в документе, на который он ссылается, отсутствует точное указание на год отправки Репнина в Астрахань (АИ. Т. 4. С. 87). По всей видимости, здесь имелся в виду не 7151, а 7152 г. В челобитной астраханского архиепископа Пахомия на воеводу кн. Ф. А. Телятевского от 1 апреля 1643 (7151) г. говорится о том, что новый астраханский воевода Б. А. Репнин еще только должен прибыть в Астрахань (АИ. Т. 4. С. 84). Согласно разрядам, он был послан (получил наказ) «по ногайским и калмыцким вестям» в Астрахань 7 апреля 1643 (7151) г.; 5 мая 1643 г. был еще в Москве — присутствовал за столом у государя (ДР. Т. II. Стб. 699–702). 7 мая 151 (1643) г. Б. А. Репнин находился в приказе Сыскных дел вместе с дьяком М. Грязевым (РГАДА. Ф. 396. On. 1. № 50644. Л. 3). 13 мая 1643 (7151) г. сыну Б. А. Репнина Ивану, который был послан в Астрахань вместе с отцом, был учинен оклад 700 четв. и 50 руб. (Боярская книга 1639 г. С. 32), т. е. в это время он еще был на Москве. В мае-июне 1643 г. в Сыскном приказе, ведавшем сыском посадских людей, Б. А. Репнин был заменен кн. Ю. А. Сицким (Гурлянд И. Я. Приказ сыскных дел. C. 23; Богоявленский С. К. С. 185). 13 июля 1643 г. главой Счетного приказа по расследованию злоупотреблений в приказе Сбора ратных людей был назначен боярин кн. Ю. А. Сицкий, а прежде во главе этого приказа стоял Б. А. Репнин (Яковлев А. И. Приказ сбора ратных людей... С. 529). Можно полагать, таким образом, что Б. А. Репнин отправился в Астрахань в конце весны — летом 1643 г. Следует отметить, что отправка Репнина в Астрахань произошла уже после смерти боярина кн. И. Б. Черкасского, бывшего, очевидно, его покровителем при дворе.
Весьма интересные и важные подробности об обстоятельствах отправки Б. А. Репнина в Астрахань сообщаются в одной из «записок» B. Н. Татищева, посвященных «делам политическим» в царствование Михаила Федоровича.85 Согласно «Записке», кн. Б. А. Репнин86 состоял при царе Михаила «в великой милости и такой силе», что «многие на него вознегодовали, а наипаче оная по смерти Филарета Никитича и царице была неприятною (т. е. особенно «неприятно» возвышение Репнина было царице)». «Записка» сообщает далее, что недовольные придворные пытались воспрепятствовать возвышению Репнина («покушались оному его щастию»), «но никому (это) не удалось, и более с собственною бедою оное засвидетельствовали». До поры до времени безуспешными оказывались замыслы оппозиции «как бы его (Репнина) на время куды отлучить к знатному делу» — пока Репнин был комнатным стольником, обязанным неотлучно находиться при особе царя, его назначение на службу вне столицы было делом затруднительным. В этой связи оппозиция предприняла следующий ловкий ход. Якобы «доброхотствуя» Репнину, его противники стали убеждать царя пожаловать его боярским чином, аргументируя это тем, что Репнин, «как человек острой, не имея случая в полате свой совет дать, остается напрасно и его величество порядочно его советами пользоваться не может». После производства Б. А. Репнина в бояре, совершившегося «во удовольствование как государя, так и оных обоих сторон», представился и удобный случай отправить его из Москвы «к знатному делу». Из Астрахани пришли известия о «смятении» татар. И хотя события в Астрахани не были столь опасными, как это представляли государю, было принято решение «послать (в Астрахань) кого из знатнейших бояр, которого б имя более, нежели число войска страх делало». Назывались имена знатнейших бояр князей И. Б. Черкасского, Мстиславского и Лыкова,87 но царь по причине их почтенного возраста и «положенных на них великих дел» отклонил их кандидатуры. Тогда предложили отправить на воеводство в Астрахань кн. Б. А. Репнина, и тот, видя, что до него на эту службу намечались столь знатные лица, «охотно сам на то склонился». Источником рассмотренных выше известий, по-видимому, явился рассказ одного из современников событий 1640‑х гг., или (что более вероятно) его ближайшего потомка. Содержащаяся в «Записке» информация исходила от лица, явно близкого к придворным сферам и достаточно осведомленного о нравах и событиях придворной жизни времени конца царствования Михаила Федоровича. Несмотря на то что «Записка» содержит неточности в деталях, сама суть событий излагается в ней вполне правдоподобно. Факт необычной, стремительной карьеры Б. А. Репнина, сопровождавшейся конфликтами в придворной среде, как мы видели, находит подтверждение в источниках различного происхождения. О главенствующем положении Б. А. Репнина при дворе царя Михаила Федоровича и недовольстве этим со стороны других придворных сообщает в своем сочинении Павел Потоцкий при характеристике думных людей времени царствования Алексея Михайловича (Северный архив. 1825. № 20. С. 303; Филина Е. И. «В поисках альтернативы...». Приложение 4. С. 335).
Удаление Репнина из Москвы серьезно подрывало позиции этого видного боярина и придворного. Отправленный в Астрахань в конце весны или летом 1643 г. Б. А. Репнин был возвращен в Москву лишь спустя три с лишним года (после 15 сентября 1646 г.). Б. А. Репнин упоминается как воевода в Астрахани еще 9 сентября 1646 г. (АИ. Т. 4. С. 48). 15 сентября в Астрахань прибыл новый воевода кн. Ф. С. Куракин. Однако Б. А. Репнин, в отличие от своих товарищей кн. Ф. Ф. Волконского и дьяка Гаврила Леонтьева, был отпущен из Астрахани не сразу, и ему пришлось подавать особую челобитную о возвращении в Москву (Смирнов П. П. Посадские люди... Т. I. С. 485). В последние годы царствования Михаила Федоровича и в начале царствования Алексея Михайловича он был, таким образом, фактически отстранен от участия в придворной жизни.
Против Б. А. Репнина интриговала не только «партия» Стрешневых во главе с царицей Евдокией, как явствует из рассказа В. Н. Татищева, но и группировка боярина Б. И. Морозова, некоторые представители которой, как мы видели, подверглись гонениям от Репнина. О враждебном отношении Б. А. Репнина к группировке Б. И. Морозова свидетельствует и то обстоятельство, что в начале царствования Алексея Михайловича (в период правления Б. И. Морозова) Б. А. Репнин, по словам современника, не пользовался расположением при дворе и находился в «немилости» (Форстен Г. В. Сношения Швеции с Россией в царствование Христины. С. 371). Действительно, новый царь не спешил возвращать его в Москву с воеводства из Астрахани. Но и после возвращения с астраханского воеводства (после 15 сентября 1646 г.) Репнин был совершенно незаметен на службе в Москве. Лишь после московского восстания 1648 г. и падения Морозова с 2 декабря 1648 г. по октябрь 1649 г. он являлся судьей Владимирского Судного приказа (Богоявленский С. К. С. 169). Но затем, когда Б. И. Морозов вновь укрепился во власти, Репнин был вновь отправлен из Москвы на воеводства в города. В октябре 1649 г. «по черкасским вестям» послан воеводой в Севск, а в мае 1650 г. «для приходу крымских людей» был послан в Белгород, где находился и в 1651 г. (ДР. Т. III. Стб. 135,166,177,210; Барсуков А. П. Списки. С. 27). 1651, воев. в Яблонове, указано, в случае прихода татар, соединиться с кн. Прозоровскими и Хворостиным, и действовать против неприятелей [d, 252—4]. С. Коллинс сообщает, что Б. И. Морозов «разослал всех старых князей по отдаленным областям: Репнина в Белгород, а Куракина в Казань» (Коллинс С. Нынешнее состояние России... // Утверждение династии. М., 1997. С. 218).
1652, июл. 5 и дек. наместник Великопермский, был «в ответе с польскими послами»[d, 320, 335]. 1653, апр. 24, с тем же званием, Велико-Пермского Наместника, отправлен со свитой в Литву, к Польск. королю Яну-Казимиру великим и полномочным послом [d, 348; Акт. Ист. II, 352; Соб. гос. гр. и дог. III, № 15]. 1653, сент. 25, возвратился из посольства, и был у руки Государя в Троицком мон. [Дв. Раз. III, 368]. 1654, ведал Разбойный Приказ.[Др. Р. Вив. XX, 387]. 1654, май, в пох. против Поляков состоял при царе; 1655, в том же пох., в Смоленске перв. воев. сторож, п., и июл. 30, от него и от других воевод из Вильны, были посланы к Государю в д. Кропивну сеунчи, с известием о взятии Вильны, и разбитии гетманов Радзивилла и Гонсевского [Дв. Раз. III. 413, 468, 478, 485]. 1655, нояб. 13, 1656, февр. 17, воев. в Смоленске [Барс. Гор. в. 209]. 1659, март. 15 — 1661, март. 20, тоже [d, 210; Акт. Ист. IV, 457]. После Б. И. Морозова (ум. 1 ноября 1661 г.) первенство в Думе перешло к кн. Борису Александровичу Репнину, представителю фамилии, еще с XVI в. тесно связанной с кланом Романовых. 1662, начальник Владимирского Судного Приказа [Др. р. Вив. XX, 294]. 1664 — 6, воев. и наместник в Белгороде [Рус. Ист. Биб. XI. 12, 120, 301, 321; Барс. Гор. В. 29].
† 1670, мая 27, погребен в Пафнутьев. мон.88
Был крупным землевладельцем. Его владения находились в Переяславле-Залесском, Московском, Коломенском, Оболенском, Арзамасском и других уездах. При этом сыновья кн. Александра Андреевича Репнина (подвергшегося по делу Романовых репрессиям при Борисе Годунове; участник I ополчения, ум. в 1612 г.) — кн. Петр и Борис Александровичи Репнины — в начале царствования не были богатыми землевладельцами.
Родовые владения Репниных располагались не в Оболенском, а в соседнем Боровском у. В писцовой книге Боровского у. 1629–1630 гг. в Щитовском ст. за кн. П. А. Репниным значилась старинная вотчина д. Шубина на р. Моче (90 четв.), за кн. Б. А. Репниным — старинная вотчина, сц. Вельяминово-Свитино (90 четв.).89 За кн. Б. А. Репниным значились выслуженная вотчина за московское осадное сидение «в королевичев приход» в Галичском у. (в Парфеньевской Окологородной вол., 207 четв.)90 и приданая вотчина в Унженском ст. Муромского у., которую он заложил в 1623/24 г. Ивану Петровичу Хомякову-Языкову.91
Благодаря близости ко двору кн. Репнины жалуются вотчинами своих сородичей — князей Оболенских. В писцовой книге Коломенского у. 1627–1628 гг. в Оглоблинской вол. за П. А. и Б. А. Репниными числилась бывшая вотчина вдовы кн. Михаила Петровича Репнина (их троюродного деда) кнг. Марии (первому принадлежала половина с. Верховля, 258 четв., второму — д. Посыкино и др., 306 четв.).92) По всей видимости, эта коломенская вотчина была пожалована П. А. и Б. А. Репниным уже после 1613 г., поскольку в 1613 г. за П. А. Репниным числилось только 134 четв. вотчинной земли. Но особенно щедрые пожалования Репниным «родительских» вотчин наблюдаются во второй половине 30‑х — начале 40‑х гг., когда происходит стремительное возвышение Б. А. Репнина. 12 сентября 1637 г., как мы видели, кн. П. А. и Б. А. Репнины были пожалованы выслуженными вотчинами их «брата», кн. В. И. Туренина- Оболенского (последнего предствителя рода Турениных) в Кашинском и Веневском у., а к кн. П. А. Репнину перешла родовая вотчина В. И. Туренина в Оболенском у. (села Хрусталь и Поречье с деревнями и пустошами). В августе 1640 г. братья П. А. и Б. А. Репнины были пожалованы за службу их отца кн. А. А. Репнина (за Нижегородское осадное сидение при царе Василии) вотчинами по 100 четв. (с поместного оклада отца в 1000 четв.; сам кн. А. А. Репнин, вотчину «взять не успел») — П. А. Репнин был пожалован вотчиной из его вологодского поместья (в Федосеевской вол.), кн. Б. А. Репнин — вотчиной из его поместья в Нугорском ст. Волховского у. (с. Емандыково и слободка Филимонова).93 Упомянутое поместье в Федосеевской вол. Вологодского у. (данное из дворцовых сел) по дозорным книгам 1615 и 1616 гг. принадлежало обоим братьям, по 127 четв. каждому (ПК 59. Л. 123; ПК 62. Л. 1858), а в писцовой книге 1628–1629 гг. значится за одним П. А. Репниным (ПК 14720. Л. 604). Согласно послушной грамоте, данной в 1643 г. П. А. Репнину на его владения в Федосеевской вол. Вологодского у., за ним числилось в вотчине д. Шекша, 220 четв., и в поместье д. Полежайка, 116 четв. (РГАДА. Ф. 233. Кн. 670. Л. 222).
Интересна история болховского владения кн. Репниных, с. Емандыки. В дозорной книге Болховского у. 1619/20 г. пуст., что было село Емал(н)дыки в Нугорском ст. (401 четв.) числилось за братьями П. А. и Б. А. Репниными как вотчина (РНБ. OP. F.IV. № 375. Л. 44 об.). Однако в платежнице 1628–1629 гг. в Нугорском ст. вотчин за кн. Репниными не упоминается, а упоминается лишь поместье одного кн. Б. А. Репнина (село и 4 деревни; названия этих селений не указаны: ПК 409. Л. 724). Можно предположить, что болховское с. Емандыки было пожаловано за службу кн. А. А. Репнину, а впоследствии его сыновья пытались закрепить эту вотчину за собой. Но, поскольку их отец реально вотчиной не владел («взять не успел»), то П. А. и Б. А. Репнины были лишены права владеть этой вотчиной, которая была переведена им в поместье. И лишь в 1640 г. братья Репнины были официально пожалованы вотчинами за службу их отца. Известно, что братья кн. П. А. и Б. А. Репнины в сентябре 1626 (7135) г. полюбовно разделили между собой вологодское и болховское поместья (Сторожев В. Н. Материалы Поместного приказа. Стб. 369).
4 июня 1641 г. Б. А. Репнину была дана грамота на старинную вотчину его «деда» боярина кн. Дмитрия Ивановича Немого Телепнева Оболенского с. Ильинское с пустошами в Оболенском у., бывшими после кн. Д. И. Немого в дворцовых селах, а затем в поместной раздаче. Половина с. Ильинского числилось перед пожалованием вотчины Б. А. Репнину в выслуженной вотчине за Афанасием Николаевым сыном Гречаниновым, а затем за его сыновьями (120 четв.). В качестве компенсации за эту вотчину Гречаниновым была дана купленная вотчина Б. А. Репнина в Мещерском (Елатомском) у. Другая половина с. Ильинского находилась в поместье за вдовой кн. Григория Тимофеевича Долгорукова кнг. Аленой (111 четв.), а в 1633/34 г. поместье перешло к кн. Василию Васильевичу Тюфякину. Последний (уступая, по-видимому, своему влиятельному сородичу кн. Б. А. Репнину) бил челом государю о «снятии» с него этого поместья «за пустотою» (AGAD. Zb. Doc. peg., nr. 8767; см. также: РГАДА. Ф. 210. Оп. 16. № 22. Л. 24–26; РГАДА. Ф. 233. Кн. 670. Л. 225; ПК 325. Л. 197 об., 217 об.). По данным Г. А. Власьева, вотчина кн. Д. И. Немого- Оболенского с. Ильинское с пустошами была дана в 1638 г. братьям П. А. и Б. А. Репниным (.Власьев Г. А. Т. I. Ч. И. С. 421).
Наконец, по жалованной грамоте от 31 марта 1643 г. Б. А. Репнину были даны на выкуп из Троице-Сергиева м‑ря крупная родовая вотчина его «прадеда» кн. Ивана Федоровича Овчинина-Оболенского (с. Овчинино Новое с пустошами в Оболенском у., всего 1697 четв.), данная в 1559/60 г. в м‑рь вдовой И. Ф. Овчинина-Оболенского кнг. Марьей, а также родовая вотчина его отца, кн. А. А. Репнина (жеребей с. Ивановского на р. Поротве в Оболенском у., 47 четв.), которую А. А. Репнин в 1574/75 г. дал в Троице-Сергиев м‑рь. Согласно жалованной грамоте, Б. А. Репнину было указано дать в Троице-Сергиев м‑рь денег за вотчину кн. И. Ф. Овчинина «вдвое, за четь по рублю, так как та прадеда ево вотчини в монастыре застарела», а за вотчину его отца кн. А. А. Репнина «дать выкупу за четь по полтине, так как отца вотчина пуста».94 В качестве своеобразной компенсации за предоставленное Б. А. Репнину право на выкуп родовых вотчин Троице-Сергиеву м‑рю 1 февраля 1644 г. была дана жалованная грамота, закреплявшая его право на владение купленной у кн. Сулешевых вотчиной в Юрьев-Польском у. «против взятые вотчины, что по государеву указу и по челобитью боярина князя Бориса Александровича Репнина дано ему на выкуп вотчины в Оболенском уезде с. Овчинино, Запажье тож...», а около 1645/46 г. власти Троице-Сергиева м‑ря получили разрешение на покупку у вдовы Петра Ивановича Внукова Анны с детьми вотчины в Стародубском ст. Суздальского у. взамен выкупленного из м‑ря боярином Б. А. Репниным с. Овчинино-Запажье в Оболенском у.95 Все это свидетельствует об особом характере пожалования Б. А. Репнину.
В конце 30‑х — начале 40‑х гг. Б. А. Репнин активно приобретает вотчины в различных уездах. Целый ряд вотчин Б. А. Репнин приобрел в 1642 г. — Василий Иванович Тарбеев заложил ему вотчину с. Оносово (Слободка) в Замошском ст. Мещерского у. (285 четв.);96 калужский сын боярский Иван Петрович Гурьев заложил ему вотчину половину сц. Горнево (Горинского) в Оболенском у.97 Другую половину сц. Горнего кн. Б. А. Репнин как поместье в апреле 1643 г. выменял у калужанина Марка Рылкова.98 Алексей Никитич Годунов продал ему вотчину в Медушском ст. Владимирского у. (деревни Клюшниково-Тяжково и Кудаево);99 вдова Петра Ивановича Бутурлина Соломонида Константиновна заложила Б. А. Репнину выслуженную вотчину своего мужа в Залесном ст. Арзамасского у. (с. Паново).100 Иван Степанович Благово продал ему свою вотчину в Фоминском ст. Рузского у.101 В декабре 1644 г. кн. Алексей Никитич Трубецкой, душеприказчик боярина кн. Б. А. Репнина, продал его вотчину в Фоминском ст. Рузского у. кн. Василию Григорьевичу Меньшому Ромодановскому (ЗВК. С. 1068). В 1643 г. кн. Б. А. Репнин выменял у кн. Ивана Исупова села Карачарово и Панфилово с деревням в Муромском у. (558 четв.) и купил в вотчину часть своего поместья в Замошском ст. Мещерского у. (40 четв.).102 В межевой Московского у. от 10 ноября 1640 г. упоминаются вотчина Б. А. Репнина сц., что была пуст. Шатилово (в Сетунском ст.), и его владение починок, что была пуст. Баташево в Чермневе ст., «что ныне за боярином князем Борисом Александровичем Репниным», т. е. недавние его приобретения.103 Вотчина д. Шатилово в Сетунском ст. упоминается за ним в росписи земельных владений Московского у. второй половины 1640‑х гг.104 В переписных книгах 1646 г. вотчина Б. А. Репнина в Сетунском ст. значится как д. Шаба(о)лово.105 В 1633/34 (7142) г. встречаем упоминание о вотчине кн. Б. А. Репнина Радонеже и Корзеневе ст. Московского у. (сц. Фоминское-Богословское).106 Сц. Фоминское-Богословское значилось за ним в вотчине в переписной книге 1646 г.107 Ранее эта вотчина принадлежала кн. И. С. Куракину. Б. А. Репнин покупает 6 дворов в Москве, на Никитской ул. возле церкви Дионисия Ареопагита.108 Упоминаются поместья кн. Б. А. Репнина (владел ими в разные годы) во Владимирском (с. Великое, 328 четв.; отказано ему в 1637 г.),109 Вологодском (127 четв., поместье перешло затем к его брату Петру),110 Волховском (из этого поместья ему была дана вотчина за службы его отца),111 Галичском (получил в ноябре 1624 г. бывшее прожиточное поместье вдовы боярина М. Б. Сабурова Ульяны, 187 четв.),112 Оболенском (половина сц. Горнего, 146 четв.; выменял у калужанина Марка Рылкова в 1643 г.),113 Переславском (с. Горки, 336 четв.; получил в мае 1643 г. бывшее поместье боярина кн. Ю. Я. Сулешева)114 и Шацком (с. Вознесенское в Замокошском ст.)115 у. К середине XVII в. Б. А. Репнин становится одним из крупнейших землевладельцев страны. Если в начале царствования Михаила Федоровича совсем юный тогда Б. А. Репнин едва ли владел более 134 четв. вотчинной земли (такие размеры вотчин показаны в земляном списке 1613 г. за его старшим братом Петром), то по материалам Приказа сбора ратных людей 1638 г. за ним значилось уже 2343 четв. поместной и вотчинной земли и 199 дворов; после 1638 г., как мы видели, Б. А. Репнин особенно активно приобретает земельные владения, и к 1647/48 г. в его владениях «в Московском уезде и в городех» насчитывалось уже 718 дворов. Стремительный рост землевладения Б. А. Репнина может служить ярким примером зависимости земельных богатств служилого человека от его близости ко двору и политического влияния.
В марте 1640 г. произошел конфликт Ф. В. Волынского с братом П. А. Репнина Борисом — окольничий Ф. В. и казначей П. И. Волынские «бранились» с боярином кн. Б. А. Репниным, называя его «своим братом» (т. е. ровней), и за бесчестье Репнина Волынских велено было посадить в тюрьму.116 Через брак с Ириной Прокопьевной Ляпуновой Ф. В. Волынский состоял в свойстве с кн. П. А. Репниным, первой супругой которого была дочь Захария Петровича Ляпунова Федора Захарьевна, приходившаяся Ирине Прокопьевне Волынской двоюродной сестрой.
∞, Мария Мироновна Вельяминова (? — 2.10.1681). По всей видимости, Мирон Андреевич Вельяминов состоял в близком родстве с боярином кн. Б. А. Репниным, являясь его тестем. Женою Б. А. Репнина значилась Мария Мироновна (отметим, что Мирон — сравнительно редкое имя в дворянской среде). На родство М. А. Вельяминова с Б. А. Репниным косвенно указывает тот факт, что пожалование М. А. Вельяминова в окольничие состоялось в период, когда Б. А. Репнин находился на пике своей придворной карьеры. В 1670 г. с сыном кн. Ив. Бор. Мария Мироновна принимала участие в постройке в Пафн. м‑ре придела пророка Ильи.117 † 2 окт. 1680 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7189 году, октября во 2 день, на память святого мученика Киприана, преставися раба божия боярина князь Бориса Александровича Репнина, жена его боярыня княгиня...».118
XXIII генерация от Рюрика
11/9. КН. ИВАН ПЕТРОВИЧ РЕПНИН (1643)
Сын Петра Александровича Андреевича119. Согласно книгам Печатного приказа, в 1643 г., после смерти П. А. Репнина (27 января 1643 г.) его вотчины в Оболенском (272 четв.), Веневском (84 четв.) и Вологодском (222 четв.), а также поместье в Вологодском у. (в Федосеевской вол. д. Полежайка, 116 четв.), всего 694 четв. поместной и вотчинной земли были даны его вдове кнг. Аксинье Ивановне с сыном Иваном и дочерью Акулиной.120 В родословцах кн. П. А. Репнин показан бездетным (Бархатная книга. С. 123; Родословец М. А. Оболенского. С. 63) и о нахождении и службе кн. И. П. Репнина при дворе мы не встречаем упоминаний в источниках.
КНЖ. АКУЛИНА ПЕТРОВНА
дочь князя Петра Александровича
Репнина. У Г. А. Власьева указана дочь Б. А. Репнина кнж. Анна, а не Акулина. Вероятно, ж. кн. Ивана (Бий мурзы) Кореповича Юсупова, поскольку его с. кн. Сем. Ив. приходился внуком кн. Петру Ал-др. (№ 9).
У Корела известен сын
Бий (Иван), унаследовавший вотчины своего деда князя Юрия Яншеевича Сулешева.121
Бий крестился в 1639/40 г. и стал князем Иваном Юсуповым (Исуповым).122 До 1648 г. он
стольник, далее попадает в опалу: в 1649 г. с женой Марьей, сыном и дворовыми людьми
Иван оказался в ссылке на Белоозере. Кара последовала за недоносительство более трех
месяцев на своих дворовых, говоривших непригожие слова о государе, будто он «не прямой государь» (незаконнорожденный).123 В 1651/52 г. жена с детьми по челобитной ее
дяди боярина князя Бориса Александровича Репнина91 была отпущена в Москву. Князя
Ивана перевели «под начало» в Кирилло-Белозерский монастырь.124 Далее он упоминается как дворянин московский.125 Умер Иван не ранее 1676/77 г.126 Он имел сына Семена
(с 1671/72 г. – стряпчий, 1675/76 г. – стольник), умершего не ранее 1685/86 г.127
Согласно книгам Печатного приказа, в 1643 г., после смерти П. А. Репнина (27 января 1643 г.) его вотчины в Оболенском (272 четв.), Веневском (84 четв.) и Вологодском (222 четв.), а также поместье в Вологодском у. (в Федосеевской вол. д. Полежайка, 116 четв.), всего 694 четв. поместной и вотчинной земли были даны его вдове кнг. Аксинье Ивановне с сыном Иваном и дочерью Акулиной.128
∞, кн. Иван Корелович (Бий-мурза) Юсупов (ум. после 1676), сын ногайского князя Корас-мурзы
12 КН. ИВАН БОРИСОВИЧ РЕПНИН (* ...., † 05.06.1697)
боярин и дворецкий; сын князя Бориса Александровича129. В разрядах 1640–1697 гг.
В состав царских спальников были зачислены сыновья возвысившегося при дворе в конце 30‑х — начале 40‑х гг. кн. Б. А. Репнина — Иван и Афанасий Борисовичи Репнины. Оба они упомянуты среди комнатных стольников царя Михаила в «Списке думных и придворных чинов 1533–1700 гг.».130 Братья появляются на государевой службе в начале 1640‑х гг. — Иван впервые упоминается в боярском «наличном» (очевидно, августовском) списке 1641 (7149) г. как стольник.131 Его имя записано, очевидно, и в «подлинном» боярском списке 7149 г.132 Очевидно, они были одновременно зачислены и в комнатные стольники. Уже в 1643 г. боярин кн. Б. А. Репнин был отправлен на воеводство в Астрахань, а вместе с ним в Астрахань были посланы его сыновья Иван и Афанасий, упомянутые в боярских списках 7151 и 7152 гг. с пометами о службе «С отцом в Астрахани».133 Хотя боярин Б. А. Репнин оставался на службе в Астрахани до 1646 г., его сын Иван вернулся в Москву раньше, еще при царе Михаиле Федоровиче. В марте 1645 г. он неоднократно упоминается во Дворце в числе покупателей царского «отставного платья».134 В сентябрьском «наличном» боярском списке 7153 г. он не упоминается 135, т. е. осенью 1645 г. его еще, по-видимому, не было на Москве. В 1647 г. имел поместный оклад в 700 четв. и денежный — в 50 рублей.
1648—1653, находился на дворцовой службе: сопровождал Государя в его поездках, был рындой при приемах и отпусках послов, прислуживал за столом Государя, сопровождал царя в его богомольных походах в Троице-Сергиев монастырь, в Кашин и Звенигород и т. п. [Дв. Раз. III, 101—346; Рус. Ист. Биб. X, 414—59]. В 1650 г. Р. был судьей Владимирского Судного Проказа и был послан в Полоцк для бережения от прихода воинских людей. 1654—5, в пох. Государя на Поляков был в Государевом полку головой у дворян [Дв. Раз. III, 416. 465, 474]. За приезд в Вязьму на указной срок 17 марта 1655 г. он получил в прибавку 50 четв. и 5 рублей, да за «Литовскую» службу, т. е. за воеводство в Могилеве в 1655—1656 гг. получил еще прибавку 200 четв. и 15 рублей. 1655, нояб.—1656 мая 7, воев. в Могилеве [Барс. Гор. В. 139; Др. Р. Вив. IX, 200.]
Во время войны 1654—1656 гг. с польским королем Яном-Казимиром, когда западнорусский край был занят войсками царя Алексея Михайловича, — во многие города «Литовской» Руси были назначены московские воеводы, — и в Могилев назначен, 1 ноября 1655 г., князь Р. Он и товарищ его Фед. Богд. Глебов получили наказ, в котором, кроме обычного повеления принять денежную, хлебную и зелейную казну, было подробно сказано, что входило в круг их обязанностей. Они должны были обращать особенное внимание на «сидельцев» (осажденных) г. Быхова; узнавать об отношениях польского короля к шведскому королю, крымскому хану и гетману войска Запоролжского Богдану Хмельницкому; оберегать Могилев от прихода воинских людей, наблюдать за сохранностью хлебных запасов, милостиво обходиться с могилевскими жителями, а суда им ни в каких делах не давать, потому что царь пожаловал их, велел им между собой судиться в ратуше по прежним обычаям. Для могилевской службы велено выделить им себе в Могилевском уезде — князю Репнину 100 крестьян, а Глебову 50, и владеть ими, пока они будут на могилевской службе, «а доходы всякие с тех крестьян им на себя делать против их мочи, а лишнего через их моч у них ничего не имать, чтоб им не было большие налоги и тягости, и челобитья от них к государю не было, и розно не разойтись».
1658, июл. 20, при встрече Грузинск. царя Теймураза Давидовича был головой у стряпчих, a июл. 6, при нем же смотрел в кривой стол [Дв. Раз. III, 496, 502]. 1659, февр. 3, пожалован из стольников в Бояре [d, III, дополн. 169; Др. Р. Вив. XX, 114]. 1659, Март. 13, бывши до этого Судьей Владим. Приказа, заменен другим [Др. Раз. Ill, дополн. 174] 1659, март. 15, послан осадным воев. в Полоцк, и был там до 1660, июл., но отпущен был в Москву по болезни. [d, 175; Барс. Гор. в. 179]. 1660, дек. 22, назначен Судьей Владимирск. Судного Приказа, и 1661, заменен отцом [Дв. Раз. III, дополн. 246; Др. Р. Вив. XX, 294]. В 1661 году Аф. Лавр. Ордин-Нащокин, бывший послом в Швеции, писал царю Алексею Михайловичу о своих соображениях по поводу заключения мира как со Швецией, так и с Польшей, и предлагал, чтобы съезд с польскими комиссарами был в Полоцке, а великим послом — князь Ив. Бор. Репнин, «потому что его Литва хорошо знает, разум и дела его выславляет везде»; с князем Р. он полагал желательным послать думного дьяка Алмаза Иванова.
1661, мая 5, послан воев. в Новгород, где был до 1665, февр. 1 [Дв. Раз. III, дополн., 263; Барс. Гор. В. 154]. Интересны подробности одной из встреч князя Р. в пределах Новгородской области, при приезде его туда на воеводство. Во второй половине мая 1661 г. до настоятеля Новгородского Иверского монастыря архимандрита Филофея дошло известие, что назначенный в Новгород воевода, боярин князь Ив. Бор. Репнин выехал из Москвы и скоро прибудет в Новгород. На пути князя Репнина лежало монастырское село Выдропуск, и архим. Филофей написал «посельским старцам» Аврамию и Алимпию, чтобы они приготовили для него приличное помещение. «A как он к вам приедет — заканчивается наставление, — и вы б поднесли ему две чети овса, или сколко пригож, по тамошнему смотря, да сена, да хлебов печеных и квасу по рассмотрению, чтоб честь воздать достойную, и ни в чем им не прекословить».
Близость Новгорода к Швеции требовала особенной внимательности как в ратном деле, так и в правильном ведении торговли. Тихвинский монастырь принимал деятельное участие во внутренней и внешней торговле, а потому в 1662 г. князь Р. неоднократно писал туда архимандриту Иосифу о разных мероприятиях относительно торговли: 1) о продаже юфти, льна, пеньки, говяжьего сала и красной меди лишь особо назначенным покупщикам; 2) о производстве в Тихвине торговли со шведами на основании Кардисского договора; 3) о расспросе Новгородских торговых лучших людей, производивших торговлю в шведских городах: Стекольне (Стокгольме), Риге и Колывани (Ревеле), нет ли каких-либо стеснений сравнительно со Столбовским договором в покупке, продаже и вывозе товаров, платеже пошлин и пр. Это надо было знать, потому что вскоре должны были отправиться из Москвы великие послы на съезд со шведскими послами. Во главе посольства назначен Вас. Сем. Волынский, а князю Репнину велено было выбрать для сопровождения его на съезд 200 самых лучших рейтар. — Игумену Александро-Свирского монастыря Симону князь Р. писал в том же 1662 г. о наблюдении за шведскими торговцами на Александро-Свирской ярмарке. Для досмотра и приема в казну так называемых указных товаров князь Р. распорядился выбрать целовальника из посадских людей.
Обилие монастырей в Новгороде и его окрестностях усложняло воеводские обязанности князя Р. Так, например, в конце 1661 г. он получил от царя Алексея Михайловича повеление отпустить, согласно челобитной строителя Вишерского монастыря, деньги на построение новой церкви в этом монастыре, а несколько месяцев спустя хлопотал о присылке из Иверского монастыря резчика, для починки раки Преподобного Саввы Вишерского; резчик явился, но отказался чинить раку, так как она резана и золочена по левкасу; на устройство же новой раки потребовалось бы очень много времени, — около года. Архимандрит Иверского монастыря Филофей часто обращался с отписками то к князю Р., то к патриарху Никону. В конце января 1662 г. он жаловался князю Р. на разгром произведенный в одном из монастырских сел немецким полковником и его людьми: у нескольких крестьян были отняты гуси, откормленные борова, сено, овес, а у одного из пострадавших взяты, кроме того, женские ферези на заячьем меху, крытые зеленым киндяком, и маленькая сковородка с рыльцем.
Весной 1662 г. нужно было собрать с Новгорода и с Новгородского уезда стрелецкий хлеб для выдачи хлебного жалованья, а из привозного Псковского хлеба продавать или раздавать в долг бедным людям. Встретилось затруднение в сборе хлеба со «властей», т. е., с митрополита, с духовенства и, главным образом, с Иверского монастыря, имевшего жалованную грамоту, по которой он был «обелен», т. е. освобожден от всех податей. Иверский и Воскресенский монастыри в Новгороде находились в главном заведовании патриарха Никона, и тот, по просьбе настоятелей, выхлопатывал у царя разные льготы, как, например, освобождение монастырских крестьян от ямской службы и выбора в целовальники, а соляных монастырских промыслов — от платежа «пятой» деньги. В Вышнем Волочке, отписанном за Иверский монастырь, было запрещено вновь открывать кабак и ссылать крестьян, поселившихся на земле, принадлежавшей прежнему кабаку. Все эти отмены вызывали обширную переписку: посылались челобитные царю и донесения патриарху, делались справки, и князь Р. получал указы относительно разных распоряжений. В 1663 г. князь Р. удостоился похвалы от царя за то, что установил цену всяким хлебным и съестные запасам и запретил перекупщикам покупать прежде мирских людей, отчего цена на съестные припасы понизилась и они стали доступнее для бедных людей.
1665, май, сдал все дела по Новгороду кн. Вас. Григ. Ромодановскому [Рус. Ист. Биб. XI, 222]. 1666, воев. в Белгороде [d, 154; Др. Р. Вив. XX, 134]. 1667, окт. 30 — 1668, воев. в Смоленске [Дв. Раз. III, 682, 842; Барс. Гор. В. 210]. Скудное состояние денежной казны в Смоленске и малое количество подьячих в съезжей избе тяготили князя Репнина: он неоднократно доносил царю о необходимости присылки денег из Москвы и, не получая таковых, написал в ноябре 1667 г., что после выдачи солдатам и начальным людям в Рославле кормовых денег за вторую половину сентября, а в Смоленске за ноябрь, в Смоленской казне денег не осталось, вследствие чего нельзя выдать жалованья генерал-майору Даниле Краферту и полковникам и начальным людям рейтарского и солдатского строя. По царскому указу велено было оставить за смоленскими рейтарами, уже наделенными поместьями, только по пяти дворов, а излишек отобрать у них и раздать беспоместным рейтарам, чтобы у всех было поровну крестьянских и бобыльских дворов, пашни, сенных покосов и всяких угодий. После отвода поместий — написать в отказные книги по именам и прислать в Москву, в Поместный Приказ, а список оставить в Смоленской съезжей избе. Получив это повеление, князя Р. отвечал в декабре 1667 г., что в Смоленской съезжей избе только четыре подьячих, — следовательно нельзя скоро написать отказные книги, да и отвод поместий рейтарам невозможно выполнить в непродолжительном времени, потому что в Смоленске мало таких неслужащих дворян, которым можно было бы поручить это дело.
В 1669 г. князь Р. дневал и ночевал при гробе царевича Семиона Алексеевича, а в 1670 г. — при гробе царевича Алексея Алексеевича; в этом же году он был судьей в Ямском Приказе. 1671 — 3, нояб., воев. в Тобольске [Соб. Гос. гр. и дог. IV, № 74; Барс. Гор. В. 240]. 1671, бывши воеводой в Тобольске, — водил митрополичьего осла в Вербное Воскресенье [Др. Р. Вив. III, 205]. За это время сохранились следующие сведения о деятельности князя Репнина: 1) в июне и июле 1670 г. он писал Верхотурскому воеводе Фед. Григ. Хрущову о набеге калмыков на Верхотурский и Тобольский уезды и советовал ему принять меры предосторожности; 2) должен был сообщить по городам и острогам о составлении переписи слободских и деревенских всяких чинов людей и о запрещении впредь верстать пашенных крестьян в беломестцы, а беломестцев в крестьяне; 3) царь велел ему оставить в «кречатьих помочниках» тех, кто верстан из казачьих и из драгунских детей и из гулящих людей и из захребетных татар, а из ясачных татар велено быть тем, «которым кречатья ловля за обычай и по вся годы кречатов ловят»; служилых людей, пашенных и оброчных крестьян, которые были прежде в кречатьих помочниках, и остальных ясачных татар от ловли кречетов отставить, чтобы каждый из них, судя по роду занятий, исправлял службу, пахал землю и платил ясак. Относительно кречетов, отправляемых в Москву для царской охоты, велено было посылать: красных кречетов — сколько будет наловлено, по 10 серых кречетов и по 15 челигов кречатных; 4) в 1672 г. он послал в Енисейск, для отправки в Нерчинский острог, боевые снаряды, хлеб и вино для аманатов и для ясачных и служилых людей: 5) в 1673 г. он донес царю, что калмыки Мелай-тайша и брат его Бабай со своими улусными людьми прикочевали из дальнего кочевья к рекам Исети и Тоболу. Он не высылал против них ратных людей и не отправил обратно в дальние кочевья по следующим причинам: от тайши приходили в Тобольск послы с заявлением, что он прикочевал со своими улусными людьми, надеясь на милость великого государя, которому желает служить; царь не велел затевать задоров с калмыками; если бы калмыки ушли обратно в свои кочевья, то могли бы потом явиться в большем количестве и уже не с мирными намерениями.
1674 — 7, исправлял боярские должности при Государе: сопровождал при поездках, участвовал в церемониях приема послов, и часто был приглашаем к столу Государя [Дв. Раз. III, 1152—1636; IV, 10]. 1676, март.—1679, март., Судья Поместного Приказа [Чтен. 1904 г. IV, 166]. 1678, указано ему идти перв. воев. с Севским и Белгородским полками [Разр. Кн. I, 1047, 1053—5]. Царь велел ему прислать в Разряд выписку: сколько в Замосковных, Украинных, Рязанских и Заоцких городах, посадах и уездах оказалось по переписи 1677—1678 гг. всяких чинов людей, крестьян и бобылей; а из которых городов переписчики не подали в Поместный Приказ переписных книг, то сообщить, сколько дворов по переписным книгам 1646 г.
С 13 февраля 1679 г. князь Репнин был ближним боярином, в 1681 г. — судьей в Приказе Казанского дворца, а затем в Сибирском Приказе136, где оставался до самой кончины в 1697 г. Боярский денежный оклад его, кроме упомянутых выше земельных и денежных дач, состоял из 400 руб. Он получал в прибавку четыре раза по 100 руб.: 1 сентября 1668 г., по случаю объявления совершеннолетия царевича Алексея Алексеевича; за службу в Полоцке, Могилеве, Новгороде и Смоленске, так как он «служил и радел и в Государеве казне чинил прибыль»; в 1675 г. «для объявления царевича», т. е. по случаю совершеннолетия наследника престола Федора Алексеевича, и в 1686 г. — «для вечного мира с польским королем». 1682, янв. 12, подписался на соборном постановлении об уничтожении местничества [Соб. Гос. гр. и дог. II, №130].
† 5 июня 1697 г. □ Пафн. м ‑рь. «Лета 7205 году, июня в 5 день, на память святого священномученика Дорофея, еписко-па Тирского, в 3 часу дня, преставися раб божий боярин князь Иоанн Борисовича Репнин, погребен зде, во обители Рождества пресвятые Богородицы, преподобного отца Пафнутия Боровского, того же месяца в 10 день, на память святого священномученика Тимофея, епископа Прусского» (ДРВ. Т. 19. С. 350; Леонид. С. 190, № 10).
В 1678 г. владел в Обол. у. сс. Ильинским, Овчининым, д. Новой Слободкой, сц. Шахов Конец, дд. Горнее, Марьино, Зыбалово, Каньшино, Пургосово-Михеево, Луканино, Нестеровкой, Тимохино, Васильчиново, Ахматово, Кузнецове, Тяпкино, Д еньгино, Лябино, Дадоровкой, Черной Грязью, Филипповкой, Ерденево, с. Старым.137
∞, Евдокия Никифоровна Плещеева (прибл 1635/40? — 8.04.1695), дочь Никифора Юрьевича Плещеева. д. Никиф. Юр. † 8 апр. 1665 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7203 году, апреля в 8 день, на память святых апостол Агафа и Руфа и иже с ними,
преставися раба божия, боярина князя Ивана Борисовича Репнина, жена его княгиня Евдокия Никифоровна дочь Юрьевича Плещеева, погребена во обители преподобного отца Пафнутия, боровского чудотворца» (ДРВ. Т. 19. С. 350; Леонид. С. 189–190, № 9).
КН. АФАНАСИЙ БОРИСОВИЧ РЕПНИН (ок. 1628 — 25.11.1653),
Сын Бориса Александровича Андреевича138, стольник (с 13.05.1643), рында (7.05.1649). В 1653 г. отправился с отцом в посольство в Польшу.
В состав царских спальников были зачислены сыновья возвысившегося при дворе в конце 30‑х — начале 40‑х гг. кн. Б. А. Репнина — Иван и Афанасий Борисовичи Репнины. Оба они упомянуты среди комнатных стольников царя Михаила в «Списке думных и придворных чинов 1533–1700 гг.».139 Братья появляются на государевой службе в начале 1640‑х гг. 1643, мая 13, пожалован в стольники.140 Афанасий впервые встречается как стольник в боярском списке 7151 (1642/43) г.141 Очевидно, они были одновременно зачислены и в комнатные стольники. Уже в 1643 г. боярин кн. Б. А. Репнин был отправлен на воеводство в Астрахань, а вместе с ним в Астрахань были посланы его сыновья Иван и Афанасий, упомянутые в боярских списках 7151 и 7152 гг. с пометами о службе «С отцом в Астрахани».142 1648, авг. 16, 1649, мая 5, смотрел в кривой стол.143
† 25 нояб. 1653 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7162 году ноября в 25 день преставися раб божий князь Афанасий Борисович Репнин, на память иже во святых отец наших Климента папы римского и Петра Александрийского».144
∞, 1653, кнж. Анна Петровна Пожарская (? — 1669), дочь кн. Петра Дмитриевича Пожарского; Получила въ приданое
Сузд. у. сс. Мыт и Волосынино; овдовѣвъ, в 1655 г. вышла за окольнич. Ив. Андр. Милославскаго.145
Бездетный.
КНЖ. ВЕРА БОРИСОВНА РЕПНИНА (? — после 15.12.1673)
Девица, 15 дек. 1673 г. дала вкладом по отце в Тр.-Серг. м‑рь митру.146
XXIV генерация от Рюрика
КН. СТЕПАНИДА ИВАНОВНА РЕПНИНА (* ...., † 03.03.1651)
† 3 марта 1651 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7159 году марта в 3 день, на память святых мученик Евтропия и дружины его,
преставися раба божия, стольника князя Василия Петровича Урусова, жена его, а боярина князя Ивана Борисовича Репнина дочь, вдова княгиня Стефанида Ивановна, и погребена на сем месте во обители преподобного отца Пафнутия, воровского чудотворца» (ДРВ. Т. 19. С. 349; Леонид. С. 188–189, № 4).
∞, кн. Василий Петрович Урусов, стольник.
14 КН. АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ БОЛЬШОЙ (? — 26.05.1666)
147.
† 26 мая 1666 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7174 году майя в 26 день, на память святого апостола Карпа, единого от 70, преставися раб божий боярина князя Ивана Борисовича сын Репнина князь Андрей Иванович».148
15 КН. НИКИТА (АНИКИТА) ИВАНОВИЧ (1668–1726)
149. Род. 1668 г. Коми. стол. Петра I, с 1685 г. поруч., с 1700 г. ген.-аншеф,
новгородский губ., 27 июня 1709 г. получил орден Андр. Первозванного. С 1711 г. рижский ген.-губ., с 1724 г. президент Военной коллегии, ген.-фельдмаршал. † 3 июля 1726 г., Рига. □ Алексеевская ц., г. Рига.

Генерал-фельдмаршал (1725). С юношеских лет один из сподвижников царя Петра I, в 1683 г. — стольник, в 1685 г. — поручик «потешной роты». Во время Азовского похода отличился захватом береговых башен у турок, с 1698 г.— генерал. Был при взятии Шлиссельбурга и Ниеншанца и в битве под Нарвою 1704 г.; в 1707 г. потерпел поражение при Головчине от Карла XII, за что разжалован царем в солдаты; за отличие в битве при Лесном восстановлен в прежнем чине. В Полтавском сражении командовал центром армии.При взятии Риги первым вошел в город и за это был назначен рижским генерал-губернатором. В 1711 г. во время Прутского похода командовал авангардом и один из первых подал голос: «умереть, но не сдаваться». В 1712 г. участвовал в осаде Штеттина и занятии Фридрихштадских укреплений. В 1715 г. на него была возложена защита берегов Курляндии. В 1724 г. назначен президентом Военной коллегии
После смерти Петра I поддержал князя А. Д. Меншикова, благодаря чему возведение на престол Екатерины I произошло без осложнений. Значение поступка Аникиты Ивановича было по достоинству оценено императрицей, и он получил богатые подарки, а в день коронации произведен в генерал-фельдмаршалы с оставлением в должности президента Военной коллегии и генерал-губернатора Лифляндии. Опасаясь его усиления, Меншиков добился передачи должности президента Военной коллегии себе и отправил престарелого князя для осмотра сооружений в Риге. Из этой командировки Аникита Иванович не вернулся.
В кругу ближайших сотрудников Петра I Аникита Иванович оставался всю жизнь на вторых ролях. Смелый в бою при исполнении данных ему приказаний, он не обладал ни выдающимися способностями, ни широтой взгляда, ни особенностью к личному почину. Он сохранил до конца своей военной деятельности «недознание» в области регулярного боя, оставаясь, как генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев, «воеводой» в строю Петровских «генералов».
Аникита Иванович в 16 лет был определен стольником к Петру Алексеевичу (которому тогда было 12 лет) и при учреждении юным царем в 1685 г. «потешных» войск в селе Преображенском близ Москвы получил чин поручика, через два года произведен в подполковники. Оберегал царя в Троицком монастыре во время мятежа стрельцов в 1689 г. Подавление мятежа и отстранение Петром от власти правительницы Софьи вывели на арену активной деятельности плеяду убежденных сторонников юного царя, среди которых был и Репнин.
Во время первого Азовского похода Петра (1695 г.) Репнин отличился, захватив у турок две береговые башни с 32 пушками, во втором походе под Азов (1696 г.), командуя фрегатом, участвовал во взятии этой крепости, давшей России выход к южным морям. С 1698 г. Аникита Иванович в чине генерал-майора занимался формированием и обучением пехотных полков, набираемых взамен отживавшего свой век стрелецкого войска. В это время Петр начал готовиться к войне со Швецией, и, действуя по его указаниям, А.Репнин и Ф.Головин к весне 1700 г. сформировали в селе Преображенском под Москвой 27 пехотных и 2 драгунских полка. Вооружались они фузеями и мушкетами, закупаемыми за границей. Аникита Иванович был назначен командиром дивизии, состоящей из 9 пехотных полков. Видя усердие Репнина в наборе и подготовке войск, царь в июне 1700 г. произвел его в генералы от пехоты — чин, соответствовавший генерал-аншефу. Князю в этот момент было 32 года, и он первым из лиц знатных фамилий в этом возрасте поднялся так высоко в военной карьере.
С началом Северной войны войска под командованием Головина двинулись к Нарве, а Репнин был направлен царем в Новгород, где он набрал и направил к Нарве новую дивизию. Назначенный генерал-губернатором Новгорода, он продолжал набор войск, затем приводил в порядок полки, вернувшиеся из-под Нарвы после жестокого поражения. Вскоре пришел и его черед отправиться на поля сражений: в августе
1701 г. он во главе 19 полков двинулся в Лифляндию, где вошел под командование фельдмаршала Б.Шереметева. Под его руководством Репнин набирался боевого опыта, учился бить шведов не только числом, но и уменьем. Полки Аникиты Ивановича приняли участие в осаде и взятии Нотебурга, в овладении Ниеншанцем и Нарвой.
Не обладая выдающимися полководческими талантами, Репнин, по оценке военных историков, действовал в сражениях с должной настойчивостью и разумностью, был «отважен без задору, но готовым, если надо для великого дела, и умереть, не пятясь». По мнению знатоков военного искусства, он все же оставался «воеводой среди петровских генералов», не всегда действовал инициативно и решительно.
Из-под Нарвы Петр направил Репнина во главе 10-тысячного корпуса к польским границам на помощь союзнику — польскому королю Августу II. Аникита Иванович действовал в соответствии с напутствием царя — остерегаться «двух дел: первое, чтоб не зело далеко зайтить, второе, что если захочет король дать генеральный бой со всем войском шведским, на то не поступай и скажи, что именно того делать тебе не ведено». Наряду с удачными боями в действиях русских войск был один критический период, когда они были блокированы в Гродно стремительно подошедшей армией Карла XII. После 75-дневной блокады, выбрав момент, Репнин организовал скрытную переправу войск на левый берег Немана и отошел к Бресту, прикрывшись болотами Полесья. При этом были уведены вся артиллерия и обоз, сохранены все больные и раненые. «Воистинно ныне уже весело жить по уведомлению сего», — радовался этой удаче Петр.
Летом 1708 г. в боевой службе Репнина неожиданно произошел драматический поворот. Русская армия, против которой двинулись главные силы Карла XII, при отступлении заняла позицию у села Головчино (неподалеку от Могилева). В ночь на 3 июля шведские полки, форсировав реку вброд, атаковали дивизию генерала Репнина, находившуюся в центре позиции русских войск, и после двухчасового упорного боя опрокинули ее. Это повлекло за собой общее отступление русской армии. Рассерженный Петр повелел А.Меншикову «про сие злое поведение накрепко разыскать, начиная с первого до последнего». При производстве следствия Меншиковым не было учтено, что дивизия Репнина была неожиданно атакована превосходящими силами противника, своевременно не получила помощи от соседних войск и тем не менее смогла нанести шведам значительный урон. В острастку другим военачальникам царь, хотя и любил князя Репнина, разжаловал его в солдаты. Суровость наказания и обида на Меншикова угнетали Аникиту Ивановича, но он не стал отпрашиваться из армии, считая это дезертирством. По горячим следам Головчина Петр составил знаменитые «Правила сражения», определявшие порядок действий войск на всех этапах боя, и особенно взаимодействия пехоты, кавалерии и артиллерии.
При разборе «головчинского позора» Аникита Иванович выказал удивительное благородство, взяв всю вину за случившееся на себя, не сделав ни одной попытки переложить ответственность на других военачальников и своих подчиненных. На вопрос: «Как вели себя во время сражения высшие и нижние его дивизии офицеры?» — он отвечал: «Генерал-лейтенант Чамберс и все полковники должность свою отправляли как надлежало».
В сражении под Лесной (сентябрь 1708 г.) князь Репнин действовал как рядовой воин, в одном из эпизодов он просил царя дать повеление казакам и башкирам, стоявшим за пехотой, колоть всех, кто подается назад. После выигранного сражения Петр по ходатайству князя М.Голицына, особо отличившегося в этой битве, восстановил Репнина в генеральском звании и должности начальника дивизии. В последующих боях Аникита Иванович полностью оправдал доверие царя. В Полтавском сражении 27 июня 1709 г., во многом предопределившем исход войны со шведами, Репнин командовал двенадцатью пехотными полками в центре позиции, за свои действия и победу был удостоен от царя высшей награды — ордена святого Андрея Первозванного.
Вскоре после Полтавы Петр приказал князю с его дивизией передвинуться к южным границам для наблюдения за движением крымских татар и турок, а также за порядком в казачьих войсках. В 1709 — 1710 гг. Аникита Иванович участвовал в осаде Риги, в период отъезда командующего Шереметева исполнял обязанности начальника армии, 4 июля 1710 г., после капитуляции гарнизона Риги, первым вошел в город с несколькими полками, 12-го имел торжественный въезд Шереметев. После этого Рейнин был назначен генерал-губернатором Риги и начальником войск, расположенных в ее окрестностях.
Когда началась война с Турцией, дивизия Репнина вошла в состав войск, возглавляемых Шереметевым, и под общим руководством Петра участвовала в Прутском походе. Несмотря на окружение русских войск неприятелем, Аникита Иванович, как и Голицын, изъявил желание «лучше умереть, нежели поддаться», но царь все же вынужден был пойти на мирные переговоры.
В 1712 — 1718 гг. Репнин действовал в Померании, Курляндии и Польше, затем, возвратясь в Ригу, исполнял обязанности генерал-губернатора Лифляндии. В 1724 г. он был назначен вместо любимца царя Меншикова, провинившегося растратой казенных средств, президентом Военной коллегии с сохранением рижского губернаторства. 7 мая, в день провозглашения Петром своей жены Екатерины императрицей, заслуженный генерал удостоился чина фельдмаршала.
Когда после смерти Петра усилиями Меншикова на престол взошла Екатерина, Аникита Иванович вместе с другими Андреевскими кавалерами был пожалован вновь учрежденным орденом святого Александра Невского. Эта награда не уменьшила его недовольства тем, что при Екатерине всю высшую власть сосредоточил в своих руках светлейший князь Меншиков. Не желая участвовать в интригах, Аникита Иванович вернулся к губернаторству в Риге, где скончался 3 июля 1726 г. на 58‑м году жизни.
Сын фельдмаршала, Василий Аникитович Репнин, генерал-фельдцейхмейстер, в 1747 — 1748 гг. был командующим русскими войсками, направленными на помощь австрийской государыне Марии Терезии, способствовал заключению Ахенского мира. Внук, Николай Васильевич Репнин, был известным полководцем и дипломатом времен Екатерины II, генерал-фельдмаршалом.
Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич. Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование Государя Императора Петра Великого:
«В 1707 году Репнин снова расположился с войсками в Польше. Наступил 1708 год, достопамятный в его жизни: армия наша, под предводительством Шереметева, занимала, вначал Июля, близь местечка Головчина, позицию вдоль по Бабичу. В тылу находился лес; впереди болотистый берег, укрепленный небольшими шанцами и рогатками. Центром командовал Фельдмаршал; на правом фланг Генерал Аларт; на левом Фельдмаршал-Лейтенант Гольц и Князь Репнин. 14-го числа Карл ХII‑й, пользуясь сильным дождем и туманом, переправился на рассвете через реку с пятью пехотными полками, перешел непроходимое почти болото и напал на дивизию Репнина, отрезал ее от Гольца, принудил отступить в беспорядке к лесу. Репнин, охранявший разные переправы и мосты, и, потому, ослабленный в силах, остановил бежавших и, под прикрытием леса, возобновил битву, удержал сильным ружейным огнем натиск неприятеля; но, растратив все заряды, принужден был удалиться, оставив Шведам семь пушек. В этом дл, с нашей стороны убито 118 чел., ранено 218 и без вести пропало 408. Потеря Шведов состояла из 255 чел. убитыми и 1219 ранеными.
Недовольный действиями Репнина Петр Великий предал его военному суду; приказал Меншикову накрепко разыскать виновных, с первого до последнего, со всякою правдою, как пред судом Божиим, учинив пред розыском присягу. Князь Репнин разжалован был в солдаты.
Вскоре представился ему случай отличить себя в присутствии Государя. 28-го Сентября, в двух милях от Пропойска, под деревнею Лесным, Петр Великий настиг Левенгаупта. Меншиков, Брюс, Голицын предводительствовали нашими войсками.
Репнин стоял с ружьем в рядах воинов и видя, что Шведы превосходили числом Россиян, осмелился просить Государя дать грозное повеление: чтобы находившиеся за регулярною пехотою Казаки и Калмыки кололи всех, кто подастся назад. «Товарищ! — сказал тогда Петр Великий Репнину, — Я еще от тебя первого слышу такой совет и чувствую, что мы не проиграем баталии».
Отчаянная битва продолжалась боле шести часов; 16 пушек, 42 знамен и штандартов и 2673 чел. пленных достались победителям. На пол сражения сочтено 8000 неприятельских тел.
Под Лесным Князь Голицын, предводительствовавший центром, покрыл себя бессмертною славой, сражался как лев. Петр Великий расцеловал его на месте битвы, пожаловал ему портрет Свой, осыпанный бриллиантами, чин Генерал-Поручика и предоставил просить еще чего пожелает. «Прости Репнина» — сказал великодушный герой, забыв вражду свою с опальным и уважая храбрость его. Черта, редко встречаемая в наше время! Вслед за тем Князь Репнин снова, в чине Генерала, принял начальство над дивизиею, расположенною в Малороссии.
27-го Июня (1709 г.), в день знаменитой битвы Полтавской, Репнин командовал центром армии, состоявшим из двенадцати пехотных полков и за мужественные подвиги свои удостоен ордена Св. Апостола Андрея Первозванного; награжден деревнями.
От Полтавы Князь Репнин с вверенною ему дивизией пошел в Лифляндию; участвовал в блокаде Риги и когда Фельдмаршал Граф Шереметев отозван был в Москву с Генералом Алартом, для присутствования при торжественном въезде Государя, принял 7‑го Ноября главное начальство над армиею: продолжал бомбардировать Ригу; прервал, посредством устроенных батарей, сообщение осажденных с Динаминдом; взорвал на воздух пороховой магазин; превратил в кучу развалин внутренность цитадели; разрушил часть вала, прилегавшего к Двине; сдал 11 Марта (1711 г.) предводительство Фельдмаршалу. Еще храбрый Генерал-Губернатор Рижский Штремберг защищал некоторое время вверенный ему город, представлявший груду камней; наконец, принужден был просить перемирия и согласился на сдачу: 4‑го Июля Репнин первый вошел в Ригу с несколькими полками; Фельдмаршал Граф Шереметев имел торжественный въезд 12-го числа. Тогда Князь Аникита Иванович, за военные подвиги свои, пожалован Рижским Генерал-Губернатором и, по случаю отъезда Фельдмаршала (в Авг.), начальствовал над войсками, расставил их в окрестностях города, в котором свирепствовали болезни и множество умирало людей.
В 1711 г. возгорелась война с Турциею. Князь Репнин получил приказание присоединиться с дивизиею к армии Графа Шереметева; командовал авангардом в достопамятный поход к Пруту и, когда войско наше было окружено многочисленным неприятелем, объявил, вместе с прочими Генералами, желание лучше умереть нежели поддаться.
Он состоял вторым, после Меншикова, начальником корпуса, высланного в Померанию; держал в осад Штетин (1712 г.); овладел под Фридрихштадтом несколькими укреплениями; содействовал Князю Ижорскому во взятии Тенингена; отобрал, по приказанию Фридриха, от Шведского Фельдмаршала Штенбока найденные в крепости орудия, знамена, ружья и прочие воинские снаряды; получил от Короля Датскаго орден Слона; участвовал во взятии Штетина (1713 г.); квартировал с дивизиею в Смоленской губернии (1714 г.); возвратился в Ригу 30 Мая, и расположил войска лагерем в окрестностях города.
Петр Великий, отдыхая от военных трудов, пригласил в исход 1714 года в Петербург многих Вельмож, и в том числе Князя Репнина, на маскарадную свадьбу старого наставника своего Зотова, носившего титул Князя Папы. Все гости, равно как и Государь, присутствовали на оной и разъезжали потом (с 16 Янв. 1715 г.) в разнохарактерных одеждах, в длинных линеях, по городу, веселясь таким образом до Февраля месяца. Репнин (с Графом Мусиным-Пушкиным, двумя Князьями Долгоруковыми и Рагузинским) представлял Венециянина и имел в руках свирель. Меншиков, Апраксин, Брюс, Вейде нарядились Гамбургскими Бургомистрами и играли на рылях; Подканцлер Шафиров, чрезвычайно тучный, находился в числе скороходов; Канцлер Граф Головкин и славный Долгоруков, бестрепетно говоривший правду Петру, играли на дудочках, в Китайских платьях; Государь бил в барабан.
В Мае (1715 г.] Князь Репнин вступил с дивизиею своею в Курляндию и защищал морской берег от неприятеля; в 1716 году был в Копенгаген, во время преднамереваемой Петром Великим высадки войск в Шонию; расположил, потом, в Мекленбургии вверенные ему полки и, в начал 1717 года занял в Польше Воеводства: Хельминское, Плоцкое, Мазовецкое и Любельское; принудил Данцигский Магистрат (1718 г.) к уплате наложенной Государем контрибуции, 140,000 ефимков; не участвовал в утверждении смертного приговора Царевичу Алексию.
С того времени, Князь Аникита Ивановичь, возвратясь в Ригу, пять лет управлял вверенною ему губерниею. В 1724 году (20 Янв.) пожалован он, вместо Меншикова, Президентом Военной Коллегии с сохранением звания Рижского Генерал-Губернатора, а 7‑го Мая, в день коронования Петром Великим Екатерины, получил достоинство Генерал-Фельдмаршала.
Князь Репнин находился в Петербурге, когда Екатерина И возведена была на Престол отважным Меншиковым (1725 г.). Он желал, вместе с Голицыными, Трубецкими, Долгоруковыми, Головкиными, воцарения юного Великого Князя Петра Алексевича, но Меншиков превозмог, имея на своей сторон Синод, гвардию и Флот. Тогда Князь Аникита Иванович, получивший, с прочими Андреевскими кавалерами, орден Св. Александра Невского в день учреждения оного (21 Мая 1725 г.), удалился от придворных интриг в Ригу, где скончался 3‑го Июля 1726 года, на 58 от рождения. Останки его покоятся в тамошней Российской церкви, преобращенной им из Лютеранской в Православную и находящейся в крепости. Доселе висит в ней герб Князя Репнина.
К чести Князя Аникиты Ивановича, служившего беспрерывно Отечеству сорок три года, должно упомянуть, что он терпеливо переносил все неприятности, постигшие его в многотрудной жизни; пострадал, в 1708 году, невинно, по оговору Меншикова, ибо при Головчине дивизия его, на которую внезапно напал Карл ХII‑й, была ослаблена разными откомандировками отрядов; Репнин не получил никакого подкрепления от своих, и совсем тем, остановя бежавших, защищался отчаянно, нанес чувствительный вред Шведам. Потом, был он подчинен своему обвинителю, не имевшему еще никакого значения, когда Репнин служил Генералом. Утверждают, будто Князь Аникита Иванович, по делу Камергера Монса, отклонил Петра Великого, в минуту сильного гнева, от мщения, которое могло бы помрачить бессмертные Его дела».
∞, 1°, 1684, кнж. Прасковья Михайловна Лыкова-Оболенская (ум. 1685), дочь Михаила Ивановича Лыкова-Оболенского (1640–1701) и Анны Григорьевны Вердеревской (ум. 1678). За ней было дано в приданое 1/2 с. Спасского Обол. у. † 7 окт. 1685 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7144 году октября в 7 день, на память святых мученик Сергия и Вакха, преста-вись раба божия, боярина князя Михаила Ивановича Лыкова, дочь его княгиня Параскевия Михайловна, а в супружестве была замужем за стольником за князем Никитою Ивановичем Репниным» (ДРВ. Т. 19. С. 355–356).
~ 2) 1694, кнж. Прасковья Дмитриевна Голицына (ум. 1703), дочь кн. Дмитрия Алексеевича Голицына (ум 1671) и кнж. Аграфены Ивановны Пожарской; дети от 2‑го брака. Ее второй брак. в 1‑м за Фед. Кир. Нарышкиным († 1691 г.). † 4 янв. 1703 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 1703 году генваря 4 дня, за два часа до дни, на Собор святых седмидесят апостол, преставися раба божия князя Никиты Ивановича Репнина, жена его княгиня Параскева Дмитриевна» (ДРВ. Т. 19. С. 351; Леонид. С. 190–191, № 13); Репнина, княгиня Прасковья
Дмитриевна // РБС. Т. 16. С. 69.
~ 3) 1704 Прасковья Глебовна Бычкова * 4‑я четв. XVII в.
Источник: Maxim Volkonsky. Князь Аникита Репнин. Публ. 25 ноября 2020 г. // https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Q7jfQXxbxqMpWGwXD9pieZCi2RtYwWoEQyHb2Vxf2m8uoegwcumvsnigr9MQPKZ3l&id=102173778332965
16 КН. АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ РЕПНИН (?-1699)
Комн. стол. Петра I, в 1683 г. был в троицком походе, в 1689 г. сопровождал Петра в Троицу. В 1697 г. был послан в Италию, «в немцы, в научение»: «А дети ево князь Никита Иванович на Москве, а князь Андрей Иванович в посылке во
Италии... сына ево болыиева послали в научение в немцы». Приведенная цитата позволяет предположить, что Андрей Иванович был старшим сыном князя Ивана Борисовича.151
† 27 янв. 1699 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 7207 генваря 27 дня, на память иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, преставися раб божий стольник князь Андрей Ивановичь Репнин, и погребено тело его зде, во обители Рождества пресвятые Богородицы и преподобного Пафнутия игумена, воровского чудотворца, того жь году февраля 23 дня, на память святого священномученика Поликарпа, епископа Смирнского» (ДРВ. Т. 19. С. ЪЬ\\ Леонид. С. 190, № 12).
∞, Татьяна Алексеевна Ржевская (1663–1715), дочь Ал. Ив. (2‑й б р., в 1‑м за кн. Ив. Мих. Долгоруковым, 1 1685). В 1687 г. разделила с бр. мужа Вас., Петром
и Вл. и его матерью кнг. Федосьей Вас. вотчины в Коломенском у.
1 25 дек. 1715 г. □ Пафн. м‑рь. «Лета 1715 декабря против 25 числа преставися раба божия стольника князя Андрея Ива-
новича Репнина жена его вдова княгиня Татьяна..» (ДРВ. Т. 19. С. 351; Леонид. С. 191, № 14)
XXV генерация от Рюрика
17/15. КН. ВАСИЛИЙ АНИКИТИЧ (*1696–30.07.1748)
152 Генерал-адъютант, генерал-фельдцейхмейстер, начал военную службу с юных лет, участвуя в отряде своего отца во время Северной войны. В 1717 г. Петр I отправил его волонтером в армию принца Евгения для изучения военного искусства. В янв. 1726 г. фендрик Преображенского полка, в 1731 г. гвардии кап., В 1736—1739 гг. он участвовал в русско-турецкой войне. В 1740 г. ген.-лейт., в 1744 г. полный ген., ген.-адъютант. В 1745 г. назначен генерал-фельдцейхмейстером и одновременно обер-гофмейстером двора великого князя Петра Федоровича и его воспитателем, а также заведующим шляхетным кадетским корпусом. В 1747—1748 гг. он был главнокомандующим русских войск, отправленных на помощь императрице Марии-Терезии, и способствовал заключению Аахенского мира.
† 21 июля 1748 г. при Купьмбахе на обратном пути в Московию.
В 1714 г. получил от отца сс. Ильинское и Овчинино Обол. у.
Современники оставили о нем следующие воспоминания: «Князь Репнин был человек весьма умный и ученый, в особенности по инженерству и фортификации, — писал Нащокин, — точию нрава был горячего и имел честное правосудие, за что многими нелюбим был». Фельдмаршал Миних писал: «Князь Василий Аникитович был умен, храбр, хорошего поведения, служил ревностно, обещал занять место между первыми генералами, знал иностранные языки и пользовался всеобщей любовью».
∞, 1v, Доротея (Дарья) Федоровна фон Поль (* рубеж 1700‑х), дочь ливонского пастора.153
∞, 2v, Мария Ивановна Головина (*1707,+1770), дочь Ивана Фёдоровича Головина (1682–1708) и гр. Анны Борисовны Шереметевой (1675–1739).
∞, 3v, Дарья Фед. Макарова, д. Фед. и Прасковьи Юр.
18/15. КН. ИВАН АНИКИТИЧ РЕПНИН (20.01.1686–17.11.1727)
154 В 1727 г. полковник Ярославского пехотного полк.
1721, подполковник князь Иван Репнин, подал офицерскую сказку: «По именному Его Царского Величества указу в 704‑м году определен валентиром при атаке Нарвском к господину генералу-фельдмаршалу барон фон Агильвию за валентира, а велено управлять за генерала-адъютанта. По взятье Нарвы в том же году определен по именному ж Его Царского Величества указу к отцу своему, генералу и кавалеру и генералу-губернатору Лифляндии князю Аниките Ивановичу Репнину, в генералы-адъютанты в ранге капитанском. И в 707‑м году по именному ж Его Царского Величества указу в Жолкве апреля в 23‑м числе пожалован в подполковники, и велено быть генералом-адъютантом у его ж сиятельства генерала-губернатора Лифляндии и кавалера князя Аникиты Ивановича Репнина. А в 712‑м году определен к полку Бутырскому на место подполковника Приклонского, который из оного полку переведен в гранодерский Лесиев полк. А у дела был на штурме Нарвском, при атаке Митавской, при акции Головчинской, Опошенской, при баталии Полтавской, при атаке Рижской, при атаке Штеттинской, при акции Турецкой, [атаке] Висмарской и Теннингской. Дворов крестьянских 42 в уезде Костромском155.
† 17 нояб. 1727 г. □ Пафн. м ‑рь. «На сем месте погребено тело раба божия князя Иоанна Аникитича Репнина, учреж-денный полковником, рождение ево от Адама 7194 году генваря 20 дня, от сего света отьиде 1727 года, месяца ноября 17 дня пополунощи в 8 часу в 30‑й минуте, а жития ево было от рождения 41 год, 9 месяцев и 26 дней, а по представлении ево супруга и дети с великим и неутешным плачем тело погребоша» (ДРВ. Т. 19. С. 352; Леонид. С. 191, № 15).
∞, 1714, кнж. Марфа Яковлевна Лобанова-Ростовская († 1729), дочь кн. Якова Ивановича Лобанова-Ростовского (1660–1732) и кнж. Марии Михайловны Черкасской.
19 КН. ЮРИЙ АНИКИТИЧ РЕПНИН (17.04.1701–26.07.1744)
генерал-лейтенант, выборгский губернатор, сын генерал-фельдмаршала и кавалера князя Аникиты Ив. Репнина, от второго брака его с Прасковьей Дмитриевной Нарышкиной, урожденной княжной Голицыной (умершей 4 января 1703 г.) 156; родился 17 апреля 1701 года. В 1722 г. серж . П реображ енского полка, в 1728 г.
подполковник, в 1743 г. ген.-лейт., в 1744 г. выборгский губ., кавалер
орден а А л ‑д р а Н евского.
Будучи еще в молодых годах зачислен на военную службу, он был послан в 1717 г. Императором Петром I, вместе с братом Василием, князем В. Долгоруковым, князем Ю. Гагариным и И. Толстым, волонтером в Австрийскую армию, под Белград, к принцу Евгению Савойскому, который в это время воевал против турок. Командировка эта была предпринята «для лучшего воинскому искусству обучения и присмотра», и государь, озабочиваясь о своих волонтерах, послал о них рекомендательные письма к главнокомандующему цесарской армией, но, насколько можно судить из сохранившегося письма старика князя Никиты Репнина, оба брата занимались за границей не столько обучением воинскому искусству, сколько веселым времяпрепровождением. «Они, писал старик, в Вене жили, а теперь в обозе живут непотребно со всяким непостоянством». Жалуясь далее на то, что воспитание Юрия и его брата и так обошлось ему уж в 15000 руб. и заставило войти в долги, Никита Репнин просил Петра І издать указ о возвращении его детей в Россию, находя дальнейшее пребывание их там бесцельным: «дети мои, будучи там в армии, от своего беспутного житья Вашему Величеству ныне и впредь никакого плода не покажут, только мне вечный стыд и разорение и несносная к старости печаль». Неизвестно, была ли удовлетворена Петром I эта просьба; точно также и о первых шагах на воинском поприще князя Юрия Никитича указаний в исторических документах не сохранилось; известно лишь, что, постепенно повышаясь в воинских чинах по службе в Военной Коллегии, Ю. Репнин в царствование императрицы Екатерины I был пожалован в подполковники и вскоре после этого был, согласно прошению, уволен в домовой отпуск «для своих необходимых нужд и для разделения пожитков с братьями» после смерти отца, последовавшей в 1726 г. Согласно оставленному отцом завещанию, князь Юрий Никитич должен был вступить в обладание половиной всего движимого отцовского имущества и, кроме того, от старшего своего брата Ивана получал выплатой 6000 руб. Оставаясь в отпуске до средины 1728 г., Репнин, по возвращению из него, подал Петру II челобитную, в которой просил определить его полковником в Вятский пехотный полк в Москву, в команду генерала Бона, на место Еропкина, назначенного Московским обер-комендантом. Просьба эта была уважена, и 12 июля 1728 г. последовал именной указ о пожаловании Репнина полковником. Когда, после смерти польского короля Августа II, правительство Анны Иоанновны решило поддержать кандидатуру на освободившийся престол курфюрста Саксонского против Станислава Лещинского и, не остановившись на одних представлениях, прибегло к вооруженному вмешательству, — Репнин был командирован в Литву вместе с генералом Измайловым. Хотя он находился под непосредственным начальством последнего, но, как видно из дошедших до нас именных указов Императрицы, во многих случаях действовал самостоятельно, постоянно рапортуя о всех предпринимаемых шагах непосредственно в Кабинет Министров. В конце октября 1733 г. Репнин получил высочайший указ выступить из Смоленска в Литву по дороге на Витебск и Быхов и принять под свое командование Вологодский пехотный полк, один батальон из Смоленского гарнизона и Рославльский эскадрон. 31 октября того же года он уже доносил об исполнении этого указа, сообщая, что выступает в поход без Рославльского эскадрона, собрать который оказалось нелегко в короткий срок. В силу данной Репнину, одновременно с указом, инструкции из Государственной Военной Коллегии, ему пришлось разместить свой отряд по отдельным городам, обратив преимущественное внимание на Витебск и Быхов. При занятии обоих этих городов, 19 и 20 декабря 1733 г. у него произошли столкновения с поляками, окончившиеся быстрым успехом. В числе прочих обязанностей, возложенных в эту кампанию на Репнина, лежало между прочим и склонение проживавшей в Литве шляхты на сторону русского претендента на польский престол. В Витебском воеводстве Репнину удалось достигнуть этого без особых трудов, но в Оршанском повете он ожидал на предстоящем «сеймике» противодействия намерениям русского правительства, а потому, дабы обеспечить и там избрание на польский престол Августа III, он командировал на сеймик отряд драгун и солдат под начальством капитана. Вскоре после этого Репнину было приказано двинуться с военным отрядом к г. Полоцку, что и было им выполнено к 25-му февраля 1734 г., но сообщение об этом почему-то своевременно не было получено в Петербурге. Вследствие этого на имя князя Ю. Н. Репнина 30 марта 1734 г. был дан высочайший рескрипт с выражением в нем удивления о неполучении от него в течение долгого времени «репортов» и с приказанием немедленно сообщить с нарочным о своих действиях. «К немалому нашему удивлению, было написано в этом рескрипте, что от вас.... никакого известия не имеем и хотя здесь словесно объявляют, якобы вы, для разогнания противной партий, к Полоцку пришли и оный взяли и противников разогнали, однако ж, за неимением от вас о тамошнем происхождении никаких репортов, весьма сумневаемся, для чего так присылкою оных замедление учинилось...». О том, что на самом деле происходило у г. Полоцка, донесений не сохранилось; известно лишь, что стратегические передвижения между Полоцком и Витебском Репнину приходилось предпринимать неоднократно, что самый город в конце концов был занят русским отрядом, а с Полоцкого воеводства была взята присяга в ноябре 1734 г. Как видно из журнальных записей Кабинета Министров, действия Репнина в Белоруссии встречали полное одобрение правительства. Для усиления находившихся в его распоряжении военных сил было отдано распоряжение о присылке в его командование Вятского батальона из Смоленска и отряда князя Радзивилла.
Особой апробации удостоились распоряжения князя Репнина о разгоне вооруженной силой собраний противной партий, о чем 17 апреля 1734 г. последовал новый рескрипт на его имя; в этом же рескрипте, ввиду достигнутого, благодаря принятым мерам, некоторого успокоения в Белоруссии, Репнину поручалось расширить район своей деятельности на прилегающие к последней уезды Псковской провинции (а именно: Пусторжевский, Заволоцкий и Опочецкий), откуда в это время стали поступать сообщения о разорениях, чинимых поляками. Но, ввиду ограниченности воинских сил, находившихся в распоряжении Ю. Н. Репнина, а также ввиду отдаленности от него нового района, ему была предоставлена при этом широкая самостоятельность. За обнаруженные по исполнению возложенных на него поручений успехи Репнин был произведен 12 декабря 1734 г., в генерал-майоры и продолжал оставаться в Белоруссии до окончательного улажения русско-польских отношений, наблюдая за прекращением разбоев, водворением правильной гражданской жизни, своевременным сбором повинностей и урегулированием торговых сообщений. Кроме того, ему было поручено производство тщательных розысков о том, не скрываются ли за польской границей беглые русские солдаты и крепостные крестьяне. В феврале 1735 г., когда до Петербурга стали доходить слухи о движении польских отрядов на Смоленск, Репнину было предписано действовать совместно с полковником Шамординым для разогнания «противничьих собраний» и для охраны в безопасности русских границ. Для той же цели был сформирован из Смоленской шляхты отряд в 500 конных вооруженных человек, который и был отдан в команду генерал-майора Репнина. 11 мая того же года, во исполнение предписания, Репнин доносил о разбитии его отрядом Огинского, сына Витебского воеводы, за что указом от 20 июня ему была вновь выражена благодарность, с предписанием: «ежели б такие противники у вас еще являться стали, то стараться вам всякими образы таких шатающихся противников прекратить и через всякие возможные способы к покорению привести и оных вовсе искоренить и в тамошних местах успокоить».
На этих сообщениях сведения об участии Репнина в Польской кампании обрываются; очевидно, он был вскоре отозван из Белоруссии ввиду наступившего там успокоения. Во второй половине того же 1735 г., по свидетельству английского посла К. Рондо, Репнин принял, с разрешения самой Императрицы, участие в военной кампании на Рейне, присоединившись к корпусу ген. Ласси, состоявшему из 8 русских полков и предназначавшемуся для подкрепления армии Австрийского императора. Репнин отправился на Силезскую границу, где находился в то время театр военных действий, вместе с братом своим и несколькими другими офицерами русской службы. Как видно из переписки К. Рондо с лордом Гаррингтоном, Репнин считался одним из лучших офицеров того времени. О последующих годах службы Репнина сведений не сохранилось, и лишь начиная с 1739 г. его имя начинает опять попадаться на страницах исторических памятников. В декабре 1739 г. князь Репнин в третий раз отправился за границу, на этот раз получив позволение: «для лечения от своих болезней к лечительным водам в немецкия земли ехать». По возвращению оттуда князю Юрию Никитичу было поручено принять участие в совместном с турецкими Комиссарами установлений границ вокруг г. Азова. По мирному трактату, заключенному между русским правительством и Портой еще 18 сентября 1739 г., а именно по 3‑му артикулу этого договора, Азовская крепость должна была быть совершенно разрушена, а земля, занимаемая ею, должна была — ради обеспечения «вечного и истинного мира» оставаться пустой по границам, установленным еще договором 1700 года. Выполнение этого-то разграничения и было возложено на Репнина. Вместе с тем, ему было поручено озаботиться судьбой правительственных чиновников из упраздняемого города. Первую задачу — разграничение земель вокруг г. Азова по Кубанской стороне реки Дона князь Репнин закончил еще осенью 1741 г., и 20 октября выдал турецким комиссарам «конвенцию о разграничении кругом Азова земли». Определив затем оставшихся по разорении Азова чиновников в Донецкую крепость и распорядившись, чтобы комендант оной отпускал им провиант и жалование из тамошнего магазина, Репнин еще в продолжение некоторого времени продолжал руководить делами пограничной с Турцией области, то исполняя возлагаемые на него поручения центральной власти, а то предпринимая, в случае надобности, и самостоятельные шаги. Так в конце января 1742 г. ему было предложено сдать дела, казну и находившихся у него под началом чиновников секретарю Коллегии Иностранных Дел Тейльсу, а самому направиться из крепости св. Анны в Малороссию и озаботиться отправкой в Крым пленных туров, содержавшихся во время войны с Турцией в г. Астрахани. Вслед за тем, указом Императрицы Елизаветы, ему было повелено «переселить на нагорную сторону жену хана Дундука, а в случае ее непокорства — предупредить турецких комиссаров, Крымского хана и Кубанского сераскира, дабы с их стороны не было оказано ей никакой помощи». Действия Репнина, предпринятые им во исполнение всех этих поручений, как видно из дневных записок Государственной Коллегии Иностранных Дел, имели результатом «апробацию его трудов и ревности по сей Комиссии». В марте того же года до сведения Репнина дошло, что кочующие около Кубани калмыки собираются осуществить свое намерение и перебраться из-за Кубани в Крым. Дабы помешать этому плану или, во всяком случае, удержать кочевников от проявлений самоуправства и грабежей, Репнин распорядился увеличить гарнизоны в пограничных крепостях и вообще принял все нужные меры.
Вскоре деятельность Репнина на юге России прекратилась, и в августе 1743 г. он уже принял участие в генеральном Суде, учрежденном Имп. Елизаветой Петровной над подполковником Ив. Степ. Лопухиным, его отцом, матерью, графиней Бестужевой и другими лицами, обвинявшимися в сношениях с некоторыми ссыльными, а также с членами Брауншвейгской фамилии. В составе этого Суда принимали участие, помимо всего Сената с генерал-прокурором, архиепископ Псковский и Суздальский, архимандрит Троицко-Сергиева монастыря и значительное число генерал-лейтенантов и генерал майоров; в качестве судьи князь Репнин получил предписание «то дело немедленно рассмотреть и что кому по правам учинить надлежит, подписав свое мнение, для нашей апробации нам (т. е. Елизавете Петровне) подать».
Непосредственно по возвращению с юга, Репнину было поручено присутствовать в Сенатской Конторе и вручена главная команда в С.-Петербурге, остававшаяся в его ведении до начала 1744 г., когда 16 января он был назначен, согласно утвержденному докладу Сената, губернатором в г. Выборг, в только что учрежденную по завоевании Финляндии губернию, к которой были присоединены Выборгская и Кексгольмская провинции; по примеру Эстляндской губернии, при нем в Выборге был учрежден «губернаментс-рат». По новой должности ему было поручено заведовать секретной о лифляндских делах Комиссией, т. е. разведочной службой о передвижениях и мероприятиях на Шведской границе. В мае же 1744 г., вероятно, ввиду успешного выполнения возложенных на него в 1741 г. поручений по размежеванию с Турцией, Репнину предложено было принять участие в Комиссии по разграничению границ со Швецией; в последовавшем по этому поводу рескрипте на имя князя Ю. Н. Репнина от 25 мая 1744 г. ему предписывалось домогаться, чтобы граница со Швецией проходила около Нейшлота, со включением в русские владения всего Пумала-Зунта (мнение ген. Любраса) или, по крайней мере, половины его и немедленно приступить к работам по разграничению. За выполнение вышеозначенных поручений Ю. Н. Репнин был награжден, 15 июля 1744 г., по случаю торжества мира со Швециею, орденом св. Александра Невского, рескрипт о пожаловании которого последовал 26 июля 1744 г.
Он, однако, ненадолго пережил эту награду и умер в Выборге, в чине генерал-лейтенанта, 14 октября 1744 года, 43 лет от роду. □ Пафн. м‑рь54.«1744 году октября 14 числа преставися генерал-лейтенант и Выборской губернии гу-бернатор и кавалер князь Георгий Аникитичь Репнин, рождение ево в [1]701 году, 17 апреля дня, а тезоименитство того жь апреля 23 числа, а погребен февраля 2 дня 1745 года» (ДРВ. Т. 19. С. 352, Леонид. С. 191, № 17).
В 1753 г. его имения отданы в обход слабоумного сына Ал-дра Юр. племяннику Ник. Вас. (№ 21). В 1714 г. по
разделу отца получил с. Хрусталь и д. Ерденово Обол. у.
Князь Юрий Никитич был женат на Клеопатре NN и имел от нее сына Александра, страдавшего слабоумием. Ввиду последнего обстоятельства Репнин, умирая, завещал все свое имущество, минуя больного сына, племяннику своему, сыну генерал-фельдцейхмейстера князя Василия Репнина — князю Николаю Васильевичу. Сила сего завещания была, однако, оспорена; дело восходило на Высочайшее рассмотрение, и только 10 июня 1753 г. последовал именной указ об исполнении во всем объеме воли завещателя.
∞, 1721, Клеопатра Ив. Мусина-Пушкина, д. Ив. А лексеев.157 † 2 марта 1744 г. □ Пафн. м‑рь. «1734 года марта 2 дня преставися раба божия княгиня Клеопатра Ивановна Репнина, князь Юрья Никитича жена, рождения ея генваря 1 дня, а тезоименитства ея октября 19 дня».158
«Сборник Имп. Русск. Историч. Общества», т. LXXVII, стр. 401, 402; т. LXXXIV, стр. 123, 217; т. СVI, стр. 582, 584, 585, 587, 588, 590; т. СVІІІ, стр. 3, 8, 21, 27, 28, 35, 44, 46, 47, 63, 64, 79, 97, 98, 102—104, 114, 115, 121, 123, 124, 132, 139, 142, 143, 181, 198, 205—207, 259, 264, 285, 315, 316, 330, 337, 345, 375, 382, 397, 429, 435, 439, 440; т. СХI, стр. 1, 14, 15, 23—26, 40, 41, 47, 48, 92, 128, 175, 195, 216, 288, 382, 335, 521; т. СХІV, стр. 42; т. СХХХ, стр. 588; Бантыш-Каменский, Историч. собрание списков кавал. 4‑х Российск. Имп. Орденов, M. 1814 г., стр. 196; «Русск. Старина» 1874 г., т. XI, стр. 41; «Архив кн. Воронцова», т. І, стр. 117, 167, 203, 208, 234, 243, 244, 245, 320, 322, 308; т. VI, стр. 93, 103, 116, 118; т. XXV, стр. 51, 54, 56—58; «Сенатский Архив», т. VI, стр. 125, 136, 139; т. VII, стр. 362; «Опись Высоч. Указов и Повел. в Сенатском Архиве», П. Баранова, т. ІІ, №3144; т. III, №№ 9083, 9173, 9288, 10301; С. Соловьев, История России с древнейш. врем., кн. IV, стр. 155; Бантыш-Каменский, Обзор внешн. сношений России, М. 1894, т. І, стр. 47; т. III, стр. 73; Список воен, генер. со вреv. Петра І до Екатерины II, СПб. 1809 г., стр. 43; Описание Дел Архива Морск. Минист-ва, т. IV, стр. 206, 211; т. VII, стр. 355. Князь П. В. Долгоруков, Русская родословная книга, т. І.
20 КН. СЕРГЕЙ АНИКИТИЧ РЕПНИН (1714)
159 Уп. в 1714 г.
КЖ. АННА АНИКИТИЧНА РЕПНИНА (* сер. 1680‑х, 1709, 1713, † ....)
Уп. в 1709–1713 гг.
Муж 1‑й: кн. Борис Федорович Хованский (* 3‑я треть XVII в.† около 1708);
Муж 2‑й: 1711, кн. Федор Петрович Хованский (* 2‑я пол. XVII в.† 1755)
XXVI генерация от Рюрика
21/17. КН. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РЕПНИН (11.03.1734–12.05.1801)

160 Военный деятель, дипломат, генерал-адъютант, генерал-фельдмаршал (1796).
Род. 11 марта 1734 г., в 1745 г. записан в Преображенский полк, в 1749 г. произведен в прап., в 1753 г. в полковые адъю танты, в 1758 г. в капитаны гвардии, в 1760 г. в полковники армии, в 1762 г. в ген.-майоры, в 1774 г. в ген.-аншефы и подполковники Измайловского полка, в 1796 г. в ген.-фельдмаршалы.
14-ти лет от роду участвовал в походе отца на Рейн, потом долго жил за границей и получил «дельное немецкое воспитание». В 1749 г. произведен в офицеры. Участник Семилетней войны 1756—1763 гг. В 1762—1763 гг. посол в Пруссии, в 1763—1768 гг.—в Польше, где добился усилия русского влияния. Командовал отдельным корпусом в русско-турецкой войне 1768—1774 гг., в 1770 г. овладел крепостями Измаил и Килия, участвовал в выработке условий Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г. В 1775—1776 гг.—посол в Турции. Его усиленное посредничество при заключении Ре-шенского мира 1779 г. укрепило авторитет русской дипломатии. Назначенный в 1791 г. (на время отсутствия Г. А. Потемкина) главнокомандующим в войне с Турцией, он после победы при Мачине вынудил турок подписать в Галаце предварительные условия мира, ставшие основой Ясского мирного договора 1791 г. Занимал должности генерал-губернатора Смоленского (1777— 1778), Псковского (1781), Рижского и Ревельского (1792), в Литве (1794—1796). Дипломатическая миссия его в 1798 г. в Австрии и Пруссии с целью создания антифранцузской коалиции окончилась неудачей, он был уволен в отставку и поселился в Москве.
† 12 мая 1801 г. □ Донской м‑рь.161
По отзыву современников был крайне высокомерен и горяч, но честен и щедр до расточительности. Он положил начало богатому собранию исторических документов князей Репниных, часть которых издана в V т. «Сборника Русского Исторического общества» и в «Киевской старине» за 1884 г.
∞, 20.01.1754, кнж. Наталья Александровна Куракина (7.04.1737–22.11.1797), дочь кн. Александра Борисовича Куракина (1697–1749) и Александры Ивановны Паниной (1711–1786). род. 20 янв. 1754 г.; в 1794 г. статс-дама, 5 апр. 1797 г. получила орден Екатерины I класса, f 17 нояб. 1797 г., Вильна. □ близ Вильны.162
22/17. КН. ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ РЕПНИН (1744–1773)
163. Род. в 1744 г. В 1773 г. подполковник.
22а/17. КН. ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА РЕПНИНА (ум. 28.02.1783)
Фрейлина.
Муж: 12.11.1749, Пётр Петрович Нарышкин (ум. 1782), сын Петра Кирилловича Нарышкина (1713–1770) и Евдокии Михайловны Готовцевой (род. 1723)
КН. МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА РЕПНИНА (* ...., 1750, † ....
От 3‑го брака, уп. в 1750 г.
КН. НИКИТА ИВАНОВИЧ РЕПНИН (* 1710‑е † 1738)
23/18. КН. ПЁТР ИВАНОВИЧ РЕПНИН (*1720‑е, +1778)
164 В 1755 г. — камергер. В 1760 г. назначен полномочным министром в Мадрид и произведен в генерал-поручики. В 1776 г. — обер-шталмейстер, генерал-аншеф и действительный камергер.
В 1730 г. недоросль, в 1738 г. ротмистр Конного полка, в 1748 г. произведен в камер-юнкеры, в 1755 г. в камергеры, в 1760 г. в ген.-поруч. В 1776 г. обер-шталмейстер, ген.-анеф и дейст. камергер.
† 1778 г.
∞, гр. Марфа Ивановна Головкина (* 1.04.1707, † 17.12.1770), д. Ив. Гавриловича. □ Пафн. м‑рь, «1770 году декабря в 17 день преставися раба божия, его сиятельства обер-шталмебстера генерал-аншефа, действительнаго камергера и разны х орденов кавалера князь Петра Ивановича Репнина, супруга его княгиня М ария, дочь покойнаго тайнаго действительного советника, сенатора, лейб-гвардии Коннаго полку подполковника, рим скаго и российскаго графа Ивана Гавриловича Голов[к]нна, в мире сем поживе 64 года, рож дение ее в [1]707 году «...» дня, тезоименитство апреля 1 число, и тело ее погребено под сим камнем» (ДРВ. Т. 19. С. 353–354; Леонид. С. 192–193, № 19).
24 КН. СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ РЕПНИН (11.09.1718–1.01.1761)
В 1738 г. ротмистр лейб-гвардии Кирасирского полка, имел совместно со
своим братом дом в Москве. В 1740 г. капитан Вологодского драгунского полка, с 1749 г. — подполковник Ингер-мандланского полка. В 1755 г. пожалован в коллежские советники и в 1756 г. уволен от службы в чине статского советника.
† 1 янв. 1761 г. □ Пафн. м‑рь, «На сем почивает м есте его сиятельство князь Сергий княж Иванович Репнин, сын князя
Ивана Аникитича и княгини М арфы Яковлевны, рожден в 1718 году сентября в 11 день, а
тезоименитство его сентября 25 числа... и сего [1]761 году генваря в 1 день пополудни в полсема часа со всеми христианскими таинствы чрез семидневную колику, идучи из Москвы, в дороге душ у возвратил всевышнему создателю Христу богу, имея от рождения 42 года и 4 месяца со днем...» (Леонид. С. 191, № 16).
В 1749 г. обладал имениями: Архангельское около Шацка, Репьева около Керенска и Тамола у Нижнего Ломова.
∞, Анна Автономовна Головина, дочь генерала Автонома Михайловича Головина.
25/19 КН. АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ РЕПНИН
165 В 1753 г. по указу Сената и завещанию отца его имения, в связи со слабоумием, отданы двоюродному бр. кн. Ник. Вас.
XXVII генерация от Рюрика
25а.21. КН. АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА РЕПНИНА (25.04.1756–23.12.1834)
С 1797 г. — кавалерственная дама, получила крест св. Екатерины 2‑й степени. В 1808 г. пожалована званием статс-дамы, а в 1826 г. получила ленту и бриллиантовые знаки ордена св. Екатерины 1‑й степени. Была обер-гофмейстериной императрицы Марии Федоровны.
Последняя представительница потомства князей Репниных, присходящих от князей Оболенских. Похоронена в Александро-Невской
лавре в Санкт-Петербурге. У супругов были дочь и пятеро сыновей, старший из которых,
князь Николай Григорьевич Волконский, принял по указу импера¬
тора Александра I имя своего деда по материнской линии и с 1801 г.
именовался князем Николаем Григорьевичем Репниным.
Княгиня Александра Николаевна Волконская была кавалерствен-
ной дамой ордена Святой Екатерины малого креста (1797), большого креста (1826) и с портретом (1808). Гофмейстерина двора импе¬
ратрицы Александры Федоровны.
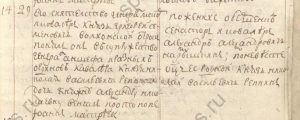
∞, кн. Григорий Семенович Волконский (* 25.01.1742 † 17.07.1824). Сын генерал-аншефа Семена Федоровича Волконского и его жены Софии Семеновны, урожденной княжны Мещерской. Зять генерал-фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина. По линии князей Волконских находится в XXV колене от Рюрика. В службе значился с 1754 г. юнкером, с 1756 г. поручик, с 1757 г. капитан. В 1762 г. был назначен обер-квартирмейстером в чине майора. В 1763 г. подполковник Ряжского карабинерного полка, затем в отпуске до 1765 г. В 1767—1768 гг. сражался против польской конфедерации в Баре1. Затем он был поставлен во главе Сибирского карабинерного полка. В 1769 г. воевал против турок под командованием князя Николая Васильевича Репнина, участвовал в 1770 г. в сражении при Кагуле и был награжден орденом Святого Георгия 4‑й степени. В 1773 г. произведен в чин генерал-майора, в 1791 г. был ранен в голову в сражении при Мачине и в 1792 г. награжден орденом Святого Георгия 2‑й степени. Генерал-аншеф с 1794 г. Переименован в действительные тайные советники в 1797 г. и генералы от кавалерии в 1803 г.
Сенатор. Оренбургский генерал-губернатор с 1803 по 1817 г. В 1806 г. награжден орденом Святого Андрея Первозванного. В 1817 г. возвращается в Санкт-Петербург.
Похоронен с супругой в Александро-Невской лавре.
КН. ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА РЕПНИНА (* 1766, † 19.10.1784 в Смоленске)

∞, 13.02.1783, кн. Фёдор Николаевич Голицын (1751–1827), сын кн. Николая Фёдоровича Голицына (1728–1780) и Прасковья Ивановны Шуваловой (1734–1802). Он вновь женился на Варваре († l4.12.1804), дочери Ивана Петровича Шипова и его супруги Варвары Алексеевны, урожденной княжны Горчаковой.
25в КН. ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА РЕПНИНА ОБОЛЕНСКАЯ (* 1769, † 03.12.1812)
ей после смерти отца в 1801 году была предназначена усадьба Воронцово, а не старшей Александре Волконской. Отец завещал младшей дочере «замуж не выходить, жить при сестре и жить дружно». Это на первый взгляд странное требование было обусловлено тем, что Дарья Репнина была горбата с детства и по тем меркам уже немолода, поэтому фельдмаршал боялся, что искатели её руки польстятся только на состояние. Впрочем, запрет не помог. Дарья довольно скоро, 1 июля 1803 года166, вышла замуж за отставного полковника и проходимца барона Августа Карловича фон Каленберга (ум. 1880), который её обманул. А. Я. Булгаков писал брату 6 февраля 1812 года167: « Третьего дня скончалась Дарья Николаевна Каленбергша, к своему благополучию; умерла в нищете, нашли полтину денег. Ожье, один француз (ибо кому это сделать, ежели не гадине этой?), её совершенно обокрал и обобрал. Когда она богу душу отдала, ничего более не имела; почти всё было отнято.
∞, 01.07.1805168, Август Карлович фон Каленберг († 1880)
КН. ИВАН ?ВАСИЛИЙ? НИКОЛАЕВИЧ РЕПНИН (* 6.06.1765 † 10.09.1774)
Умер от водянки. □ Ал-дро-Невский м‑рь.169
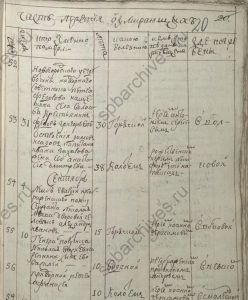
КН. МАРФА ПЕТРОВНА РЕПНИНА
Дочь Петра Васильевича Репнина.
Без места в росписи
В справочнике Саитова упоминаются не вошедшие в таблицу и неизвестные иным источникам «князья Иван и Федор Ивановичи, погребены в подцерковной палатке церкви Всех святых у Всесвятских ворот в Чертодье, построенной им и в 7023 (1514 г.) году и разобранной в 1838 г. по случаю
постройки храм а Х риста Спасителя».170 Отчество этих князей и время их деятельности позволяю т предположить, что они были сыновьями основателя рода кн. Ив. Мих. Репин.
ПЕЧАТКИ
Печаток не знайдено
ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
Документів не знайдено
АЛЬБОМИ З МЕДІА
Медіа не знайдено
РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ
- Сост: А. В. Антонов. Родословные росписи конца XVII века. — Изд. М.: Рос.гос.арх.древ.актов. Археогр. центр. Вып. 6. 1996 г. Князья Волконские. стр. 116—118. Князья Репнины. стр. 283. ISBN 5–011-86169–1 (Т.6). ISBN 5–028-86169–6.[↩]
- Н. Новиков. Родословная книга князей и дворян Российских и выезжих (Бархатная книга). В 2‑х частях. Часть I. Тип: Университетская тип. 1787 г. Род князей Репниных. стр. 218—219[↩]
- РГАДА- Ф ‑1209. On. 1. Кн. 15. Л. 160.[↩]
- Корсакова В. Репня-Оболенский, князь Иван Михайлович // РБС. Т. 16. С. 136–138.[↩]
- Долгоруков.Т. 1. С. 52, № 89; С. 270, № 1; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 262, № 30; С. 414, № 1; Кобрин. Материалы. С. 97, № 28; Лихач Е. Оболенский, князь Иван Михайлович Репня // РБС. Т. 12. С. 38–39.[↩]
- Брх. I, 2І8.[↩]
- Др. Р. Вив. ІХ, 101; Милюк. 76–7]. 1530, в пох. на Казань вместе с бр. Петром Ивановичем Р., в конной рати, воев. прав. р.[ПСРЛ. ѴІII, 273: Милюк. 81; Крмз. VII, 92, прм. 302]. 1534—5, в Литовских походах перв. воев. лев. р.[ПСРЛ. VIII, 288–90; Милюк. 94,96]
В 1536 присутствовал на торжеств, приёме правительницей Еленой Глинской и 6‑летним вел. кн. Иваном IV освобожденного из заключения хана Шейх-Али и его жены Фатьмы и во время обеда был кравчим Фатьмы.((Крмз. VIII, 22.[↩]
- Крмз. VII, 33[↩]
- Власьев Г.А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий. СПб., 1906. Т. 1. Ч. 2. С. 414–415.[↩]
- Брх. I, 218; Долгоруков.Т. 1.С. 271, № 3; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 415–416, № 3; Кобрин. Материалы. С. 102, № 67.[↩]
- ДР. р. Вив. IX, 192; Милюк. 78 — 9.[↩]
- Вкл. кн. Тр.-Серг. м‑ря. С. 99, л. 355.[↩]
- Брх. I, 218; Долгоруков.1. 1. С. 271, № 4; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 416, № 4; Кобрин. Материалы. С. 102, № 68.[↩]
- Брх. I, 218; Долгоруков. Т. 1. С. 271, № 5; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 416–417, № 5; Кобрин. Материалы. С. 110, № 146; Корсакова В. Репнин, князь Михаил Петрович // РБС. Т. 16. С. 92–93.[↩]
- Тыс. кн. С. 57, л. 118; Двор. тетр. С. 118, л. 90.[↩]
- Соб. Гос. гр. и дог. I, № 166; Продолж. Др. Р. Вив. VI, 7; Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 13.[↩]
- Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.). С. 94, 179–180.[↩]
- ПСРЛ. IV, 311, Крмз. VIII, 163, 174–5, прм. 540.[↩]
- Др. Р. Вив. XX, 43.[↩]
- Др. Р. Вив. ХІІІ, 343; Синб. Сб., 5; Милюк., 241.[↩]
- Соб. Гос. гр. и дог. I, № 175; Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 15, 18[↩]
- Писц. кн. XVI, I, 514.[↩]
- РНБ. F IV. № 194. Л. 79 об. («Род князь Михайловы княгини Петровича Репнина. Княгиню Марию»).[↩]
- Брх. I, 218; Долгоруков. Т. 1. С. 271, № 6; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 417–418, № 6; Кобрин. Материалы. С. 11О, № 147.[↩]
- РГБ. Q IV. № 124. Л. 412 об.[↩]
- Брх. I, 218; Долгоруков. Т. 1. С. 271, № 7; Власьев. Т. 1. Выл. 2. С. 418, № 7; Кобрин. Материалы. С. 110, № 148.[↩]
- Двор. тетр. С 118, л. 90 об.[↩]
- Долгоруков. Т. 1.С. 271, № 8; Власъев. Т.1. Вып. 2. С. 419–420, № 8; Корсакова В. Репнин, князь Александр Андреевич // РБС. Т. 16. С. 73; Кобрин. Материалы. С. 119, № 240; «Собр. Гос. Гр. и Дог.», II, стр. 623; «Акты Ист.», II, стр. 137, 141; «Акты Арх. Эксп.», II, стр. 204, 302, 313, 323; «Др. Рос. Вивл.», IX, 194–195; «Синб. Сб.», стр. 127, 135, 137, 139; «Акты Моск. госуд.», I, стр. 40; Карамзин, Ист. госуд. Рос., т. X, пр. 133; XI, пр. 146; Соловьев, История России, т. т. VIII и IX; А. П. Барсуков Род Шереметевых, т. II, стр. 161.[↩]
- РК 1598–1638. С. 66–67.[↩]
- Вкл. кн. Тр.-Серг. м‑ря. С. 99, л. 355.[↩]
- Брх. I, 219;Долгоруков. Т. 1. С. 271. № 9; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 420–421, № 9; Корсакова В. Репнин, князь Петр Александрович. С. 127–128.[↩]
- ДР. Т. I. Стб. 668.[↩]
- ДР. Т. I. Стб. 538.[↩]
- Форстен Г. В. Сношения Швеции с Россией в царствование Христины. С. 365.[↩]
- РИБ. Т. XXII. Стб. 63.[↩]
- См., например: РГАДА. Ф. 233. № 670. Л. 196 об.[↩]
- ДР. Т. I. Стб. 668, 669. 678–680, 712–714, 726, 747, 748, 752, 755; КР. Т. I. Стб. 1052–1058.[↩]
- ДР. Т. II. Стб. 456, 457, 467.[↩]
- Барсуков А. П. Списки. С. 153.[↩]
- Богоявленский С. К. С. 184–185; АПД. М., 1917. Т. И. С. 430,431; ААЭ. Т. III, № 279.[↩]
- Смирнов П. П. Посадские люди... Т. I. С. 461–463.[↩]
- РГАДА. Ф. 396. Оп. 1.№ 41568. Л. 20.[↩]
- Богоявленский С. К. С. 154; Приказы Московского государства. С. 168.[↩]
- ДР. Т. II. Стб. 596.[↩]
- Богоявленский С. К. С. 190.[↩]
- РГАДА. Ф. 141. 1639 г. Д. 15. Л. 1–2; упоминается дело: Богоявленский С. К. С. 185.[↩]
- ДРВ. Т. 19. С. 349; Леонид. С. 188, № 3).)
В земляном списке 1613 г. за кн. П. А. Репниным числилось всего 134 четв. старых вотчин, а также поместья «новые дачи, что ему дано при государе на Вологде из черных волостей, 300 чети».((ЧОИДР. 1895. Кн. I. Отд. I. С. 12.[↩]
- ПК 173‑а. Л. 1551.[↩]
- ПК 204. Л. 134–138. За вдовой кн. М. П. Репнина кнг. Марьей эта вотчина упоминается в коломенской писцовой книге 1577/78 г. (ПКМГ. Ч. I. Отд. I. С. 514[↩]
- AGAD. Zb. Doc. peg., nr. 8765 и 8766.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 670. Л. 222[↩]
- Вкл. кн. Тр.-Серг. м‑ря. С. 99, л. 355.[↩]
- ДРВ. Т. 19. С. 348; Леонид. С. 188, № 2.[↩]
- РГАДА. Ф. 1209. Oп. 1. Кн. 440. Л. 229 об. — 213.[↩]
- ГИМ. Муз. № 1520. Л. 209.[↩]
- Долгоруков. Т. 1. С. 271, № 10; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 422–423, № 10; ГИМ. Муз. № 1520. л. 209; Белоусов. Т. 1. С. 274; Корсакова В. Репнин, князь Борис Александрович //РБС. Т. 16. С. 83–85.[↩]
- 1012 Ромодановская Е. К. Избранные труды. Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск, 2002. С. 344.[↩]
- ДРВ. М., 1790. Ч. XIII. С. 348.[↩]
- РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 202. Л. 63. См. также (данные за 1618–1635 гг.): РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 203. Л. 94, 197, 415; Кн. 205. Л. 184; Кн. 207. Л. 238 об.; Кн. 209. Л. 12 об., 299, 318, 586; Кн. 280. Л. 154 об., 247, 373, 395; Кн. 281. Л. 655; Кн. 629. Л. 70; Кн. 215. Л. 151; Кн. 286. Л. 407; Кн. 218. Л. 108; Кн. 288. Л. 302; Кн. 289. Л. 330, 374 об., 850 об.; Кн. 220. Л. 14, 134 об.; Кн. 290. Л. 67, 115 об., 254, 344; Кн. 291. Л. 69 об., 233; № 292. Л. 147 об., 280 об., 310 об. [↩]
- РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 202. Л. 63.[↩]
- РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 209. Л. 299.[↩]
- ДР. Т. I. Стб. 429, 436, 443, 447, 465, 524, 558.[↩]
- Богоявленский С. К. С. 70, 71, 100, 106, 156.[↩]
- РК 1598–1638. С. 66–67.[↩]
- Власьев Г. А. Т. I. Ч. II. С. 443.[↩]
- ЗВК. С. 1068. [↩]
- ГИМ. Собр. Уварова. № 206. Л. 132 об.; Родословец М. А. Оболенского. С. 91; Беляков А. В. Чингисиды в России. С. 112.[↩]
- Беляков А. В. Последний царь Касимовский. С. 11, 16.[↩]
- РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 295. Л. 116.[↩]
- ДР. Т. И. Стб. 621.[↩]
- ДР. Т. II. Стб. 621, 645, 653, 702 и др.[↩]
- Смирнов П. П. Посадские люди... Т. I. С. 461–463; Богоявленский С. К. С. 185; Гурлянд И. Я. Приказ сыскных дел. С. 3–5.[↩]
- Смирнов П. П. Посадские люди... Т. I. С. 469, 474–479, 482, 483.[↩]
- Гурлянд И. Я. Приказ великого государя Тайных дел. Ярославль. С. 98–100; Богоявленский С. К. С. 135; Приказы Московского государства. С. 175 (зд. рассматривается как Приказ Соборного дела); ААЭ. Т. III. № 317. С. 465; Временник ОИДР. М., 1850. Кн. 7. Отд. II (2). С. 6.[↩]
- Яковлев А. И. Приказ сбора ратных людей... С. 459–540.[↩]
- Богоявленский С. К. С. 185; см. также: Соколова А. А., фон-Мекк А. К. Расходные книги. С. 69 (здесь упоминается приказ «Сыскного дела мурз Черкасских» 1640/41 г., возглавляемый боярином кн. Б. А. Репниным с тов.).[↩]
- ДР. Т. II. Стб. 679.[↩]
- Богоявленский С. К. С. 132. 1007 [↩]
- Смирнов П. П. Посадские люди... Т. I. С. 482.[↩]
- Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. Ч. 2. С. 101–105.[↩]
- Там же; Лаврентьев А. В. Люди и вещи. Памятники русской истории и культуры XVI-XVII вв., их создатели и владельцы. М., 1997. С. 32.[↩]
- РИБ. Т. X. С. 298. — Среди обвиняемых был и племянник Л. С. Плещеева Иван Маркушевский (Там же). О родстве Маркушевских с Л. С. Плещеевым и перипетиях их взаимоотношений см.: Опарина Т. А. Иноземцы в России XVI- XVII вв. М., 2007. С. 227–267. [↩]
- ГИМ. Собр. Уварова, № 206. Л. 197 об.; Родословец М. А. Оболенского. С. 130.[↩]
- Зерцалов А. Н. О мятежах... С. 191.[↩]
- Татищев В. Н. История Российская. Л., 1968. Т. VII. С. 160–162; РГАДА. Ф. 199 (портфели Г. Ф. Миллера). On. 1. № 46/8.[↩]
- В начале текста «записки» он ошибочно назван Куракиным, а затем (правильно) — Репниным.[↩]
- Сведения нашего источника здесь не точны — кн. Ф. И. Мстиславский умер еще в 1622 г., задолго до описываемых событий; к тому времени умер и кн. И. Б. Черкасский (в апреле 1642 г.).[↩]
- Др. Р. Вив. XIX, 349; XX, 121.[↩]
- ПК 10326. Л. 495 о6.–498.[↩]
- ПК 96. Л. 476.[↩]
- ПК 11829. Л. 260.[↩]
- ПК 204. Л. 134–138. За вдовой кн. М. П. Репнина кнг. Марьей эта вотчина упоминается в коломенской писцовой книге 1577/78 г. (ПКМГ. Ч. I. Отд. I. С. 514[↩]
- AGAD. Zb. Doc. peg., nr. 8765 и 8766.[↩]
- AGAD. Zb. Doc. peg., nr. 8768; см. также: РГАДА. Ф. 233. Кн. 670. Л. 315 об. (здесь грамота датирована 11 апреля 1643 г.).[↩]
- Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина. С. 108,110; см. также: РГАДА. Ф. 233. Кн. 671. Л. 290 об.-291; ЗВК. С. 1250; Описание Грамот Коллегии экономии. Т. 2. С. 667.[↩]
- ЗВК. С. 270; см. также: ПК 533. Л. 488; РГАДА. Ф. 233. Кн. 673. Л. 643.[↩]
- ЗВК. С. 271.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 670. Л. 316 об.[↩]
- ЗВК. С. 271.[↩]
- ЗВК. С. 683.[↩]
- ЗВК. С. 688.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 670. Л. 318, 318 об.[↩]
- ПК 687. Л. 116 и об.[↩]
- РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 1063. Л. 48.[↩]
- Шватченко О. А. Вотчины (1996). С. 101; Рождественский С. В. Роспись 1647/48 г. Стб. 205.[↩]
- Холмогоровы. Вып. V. С. 137.[↩]
- Рождественский С. В. Роспись 1647/48 г. Стб. 205.[↩]
- Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. М., 1891. Ч. 2. С. 101–105.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 797. Л. 78 об.[↩]
- ПК 59. Л. 123; ПК 62. Л, 1858; ПК 14720. Л. 604.[↩]
- ПК 409. Л. 724.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 662. Л. 79 об.[↩]
- Там же. Кн. 670. Л. 316 об.[↩]
- Там же. Л. 317 об.[↩]
- ПК 533. Л. 751 об.[↩]
- ДР. Т. II. Стб. 624,626.[↩]
- Матер, для истор. опис. Пафн. мон, Зерцалова, Калужс. губ. вѣдом. 1860 г, № 50—1.[↩]
- ДРВ. Т. 19. С. 350; Леонид. С. 189, № 8.[↩]
- Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 423, № 11.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 670. Л. 222[↩]
- Павлов А.П. Указ. соч. Т. II. С. 231.[↩]
- РИБ. СПб., 1884. Т. 8. Стб. 208.[↩]
- Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М.; Л., 1948. С. 212, 246; Новомбергский Н.Я. «Слово и Дело» // Известия Томского университета. Томск, 1919. Кн. LXVIII. С. 22, 69–70.[↩]
- Описание документов и бумаг … М., 1908. Кн. 15. С. 276.[↩]
- Белоусов М.Р. Указ. соч. Т. I. С. 315.[↩]
- Алфавитный указатель фамилий и лиц … С. 489.[↩]
- Там же. С. 489[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 670. Л. 222[↩]
- Долгоруков.Т. 1. С. 271, № 11; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 424—425, № 12; Белоусов. Т. 1. С. 274; Корсакова В. Репнин, князь Иван Борисович // РБС. Т. 16. С. 89–92.[↩]
- РГАДА. Ф.188. Оп.1. № 475. Л. 99 об.[↩]
- РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 165. Столпик 1. Л. 5.[↩]
- РГАДА. Ф. 210. Оп. 17. № 45. Л. 67 — здесь читается лишь: «князь Иван княж..» /вписан между строк/, но, судя по порядку расположения имен, имеется в виду, скорее всего, именно кн. И. Б. Репнин).[↩]
- РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 182. Столпик 2. Л. 9; № 216. Л. 123.[↩]
- РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 586. Л. 245, 248, 253, 255, 262, 264, 266.[↩]
- РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 189. Столпик 7.[↩]
- Акт. Ист. V. 78—488.[↩]
- РГАДА Ф. 1209. Oп. 1. Кн. 10320. Л. 209–237 об.[↩]
- Брх. I, 219; Долгоруков.Т. 1. С. 271, № 12; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 425, № 13; Белоусов. Т. 1. С. 274.[↩]
- РГАДА. Ф.188. Оп.1. № 475. Л. 99 об.[↩]
- ДР. Р. Вив. IX, 202.[↩]
- РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 182. Столпик 2. Л. 8.[↩]
- РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 182. Столпик 2. Л. 9; № 216. Л. 123.[↩]
- Дв. Раз. III, 101, 118]. 1649, мая 7, рында в белом плать, при приеме Польскаго посла [d, 120]. 1649, сент, до нояб., сопровождал Государя в поездках [d, 133—42]. 1651—2, служит при дворе [d, 251, 346]. 1653, апр. 24, стольник, отправляется с отцом в свите посольства в Польшу.((d, 348[↩]
- ДРВ. Т. 19. С. 349; Леонид. С. 189, № 5.[↩]
- Моск. ст. кн. 9880, д. 3; Сузд. ст. кн. 60. Д. 23.[↩]
- Леонд. надпис. Тр.-Сер. Л.; № 59.[↩]
- Долгоруков. Т. 1. С. 271, № 13; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 425, № 14.[↩]
- ДРВ. Т. 19. С. 349; Леонид. С. 189, № 6.[↩]
- Долгоруков.Т. 1. С. 271, № 14; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 426–427, № 15; Масловский С. Д. Репнин, князь Аникита Иванович РБС. Т. 16. С. 74–83.[↩]
- Долгоруков. Т. 1. С. 271, № 15; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 428, № 16.[↩]
- «Что своему брату учинишь, такожде и сам приимешь»: Грамотки и челобитные красноярскому воеводе С. И. Дурново. 1696— 1698 гт. Исторический архив, № 5. 1993. С. 194 [↩]
- Долгоруков. Т. 1. С. 271, № 16; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. [↩]
- Русский архив. 1912. Вып. 1. С. 404.[↩]
- Долгоруков.Т. 1. С. 271, № 17; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 431, № 18.[↩]
- РГВИА. Ф.490. Оп.2. Д.32.Л.ЗЗ об.-34.[↩]
- Долгоруков.Т. 1. С. 272, № 18; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 431–432, № 19; Репнин, князь
Юрий Никитич// Т. 16. С. 132–136[↩] - Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого, с 1721-го по 1725‑й год / Пер. [предисл.] с нем. И. Аммон. 2‑е изд. М., 1858. Ч. 1. С. 205.[↩]
- Леонид. С. 191, № 16.[↩]
- Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 432, № 20.[↩]
- Долгоруков.Т. 1. С. 272, № 19; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 432–434, № 21; Масловский С.Д. Репнин, князь Николай Васильевич // РБС. X 16. С. 93–118.[↩]
- Саитов. Т. 3. С. 17.[↩]
- Репнина, княгиня Наталья Александровна // РБС. Т. 16. С. 68–69.[↩]
- Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 435, № 22.[↩]
- Долгоруков.1. 1. С. 272, № 20; Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 435–436, № 23; Ельницкий А. Репнин, князь Петр Иванович // РБС. Т. 16. С. 128–132.[↩]
- Власьев. Т. 1. Вып. 2. С. 436. № 25.[↩]
- ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.133. с. 97. Метрические книги Никольского Богоявленского морского собора.[↩]
- Братья Булгаковы. Переписка. Т. 1. — М.: Захаров, 2010. — 749 с.[↩]
- ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.133. с. 97. Метрические книги Никольского Богоявленского морского собора.[↩]
- Исторические кладбищ а Петербурга. СПб., 1993. С. 154, № 328 (чугунная надгробная плита, найдена при раскопках у западной стены Лазаревской ц. в 1929–1931 гг.).[↩]
- Саитов. Т. 3. С. 17 (ссылка на рукопись А. А. Мартынова «Храмозданные летописи
Москвы», хранящуюся в имп. Об-ве истории и древностей российских).[↩]

