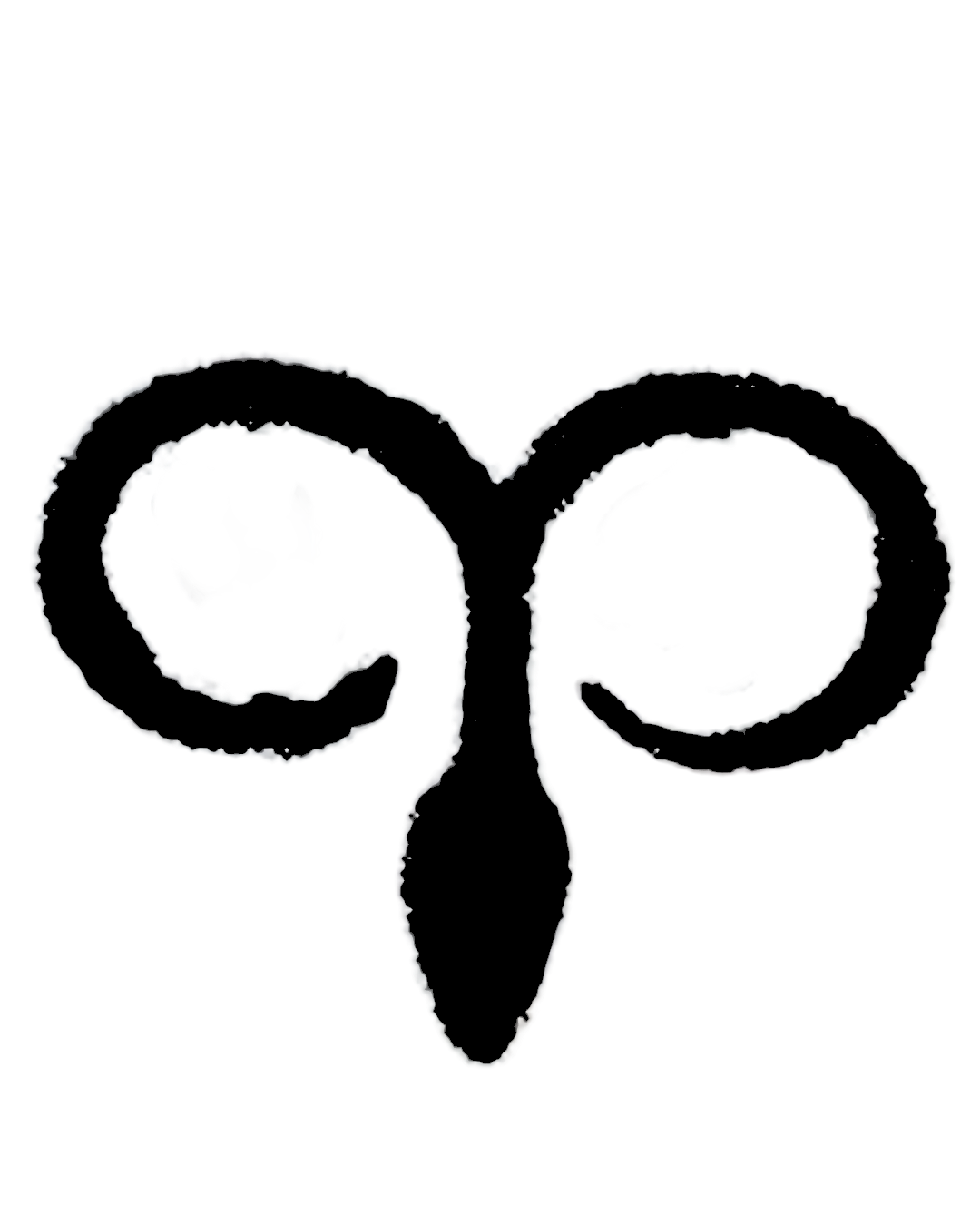Общие сведения о роде князей Рязанских
Муромо-Рязанское княжество возникло в 1127 г., когда оно отделилось от Черниговского. Это произошло из-за нарушения лествичного права. Князь Всеволод Ольгович выгнал своего дядю Ярослава Святославича из Чернигова, и последний и до того седевший в Муроме, ушёл туда на окраину Земли Русской. Неудачно добиваясь справедливости у великого князя Киевского Ярослав так и умер в Муроме в 1129 г., будучи князем Муромо-Рязанским. Сначала главным городом земли был Муром. Но около 1161 г. при внуках Ярослава Святославича, княжество окончательно разделилось на отдельные Муромское и Рязянское. И со временем Рязань начинает играть более важную роль в регионе. Уже во второй половине XII в. оба княжества начинают подпадать под влияние суздальских князей, а князья сходят на подручников великого князя Владимро-Суздальского. Несмотря на довольно упорную борьбу, особенно при Глебе Ростиславиче, это влияние стало настолько сильно, что Всеволод Юрьевич Больбшое Гнездо свободно распоряжался и князьями Р., и их войсками и землями. Он являлся в Р. область для улажения междоусобиц Р. князей, дважды опустошил страну и город Рязань (1186 и 1208 гг.), отвозил в плен князей и ставил вместо них своих наместников.
Княжество занимало восточную окраину Руси, бассейн Оки и ее притоков Прони, Осетра и Цны, верховья Дона и Воронежа (совр. Рязанская, Липецкая, северо-восток Тамбовской и юг Владимирской областей). Граничило на западе с Черниговским, на севере с Ростово-Суздальским княжеством; на востоке его соседями были мордовские племена, а на юге половцы. Население княжества было смешанным: здесь жили как славяне (кривичи, вятичи), так и угро-финны (мордва, мурома, мещера).
География великого княжества Рязанского
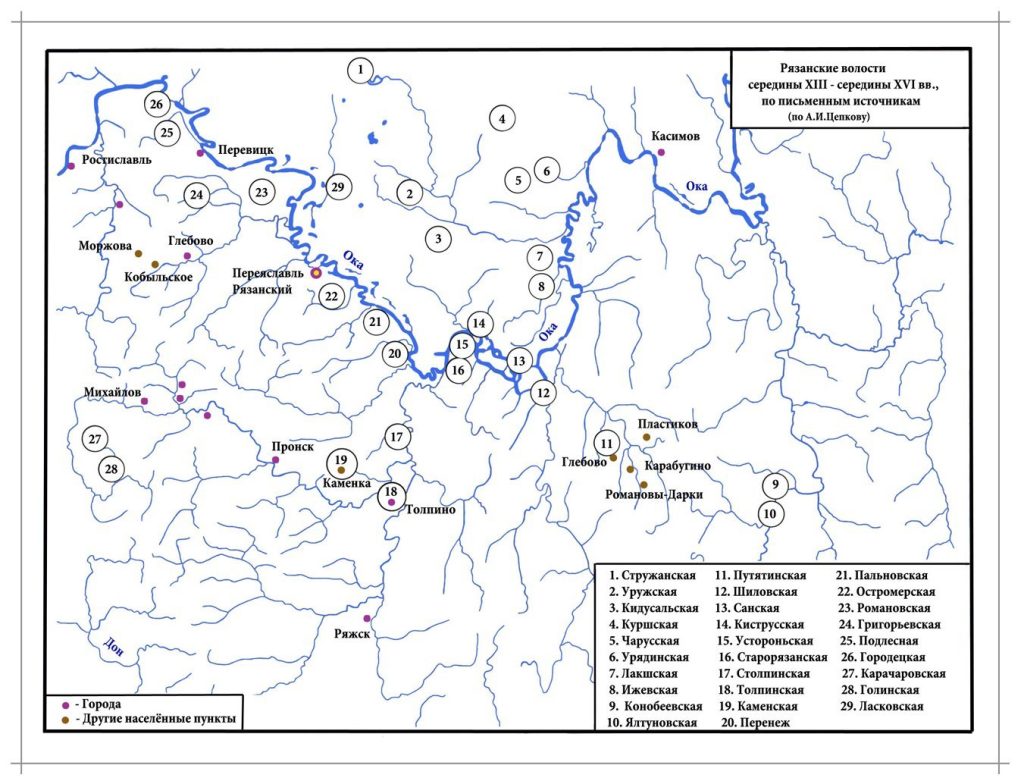
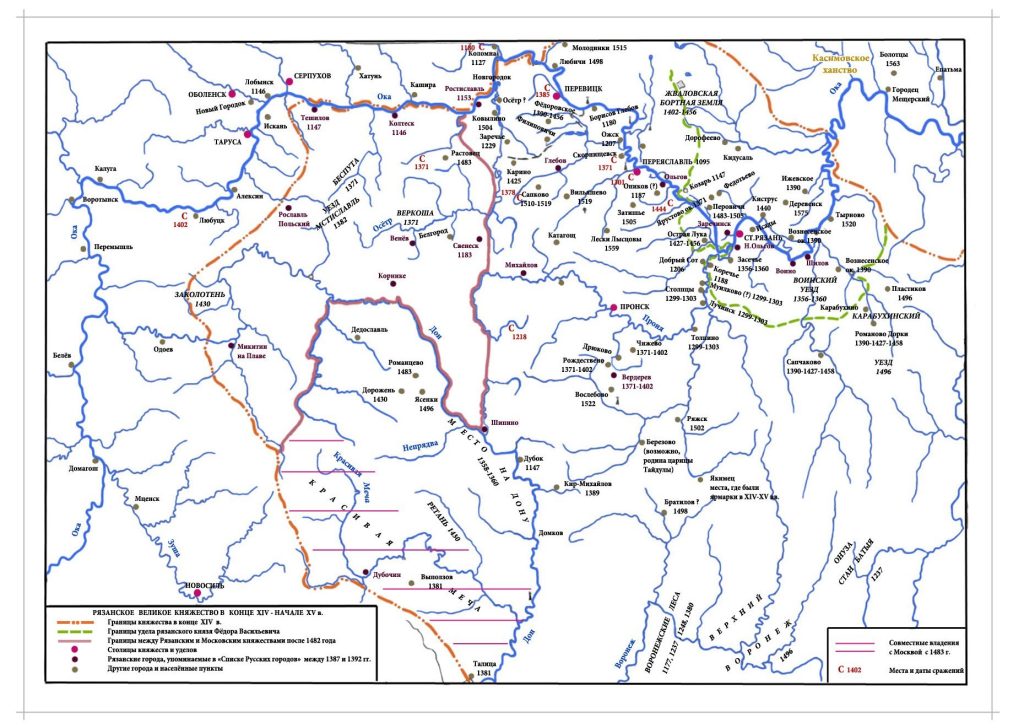
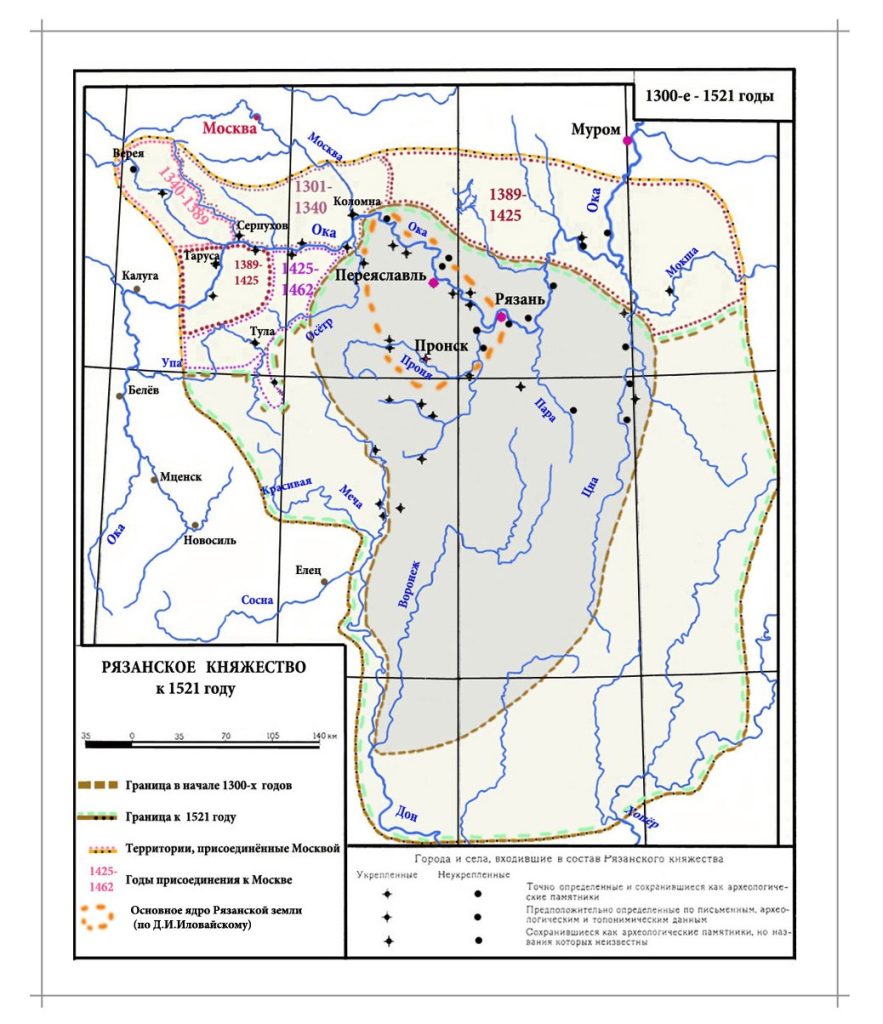
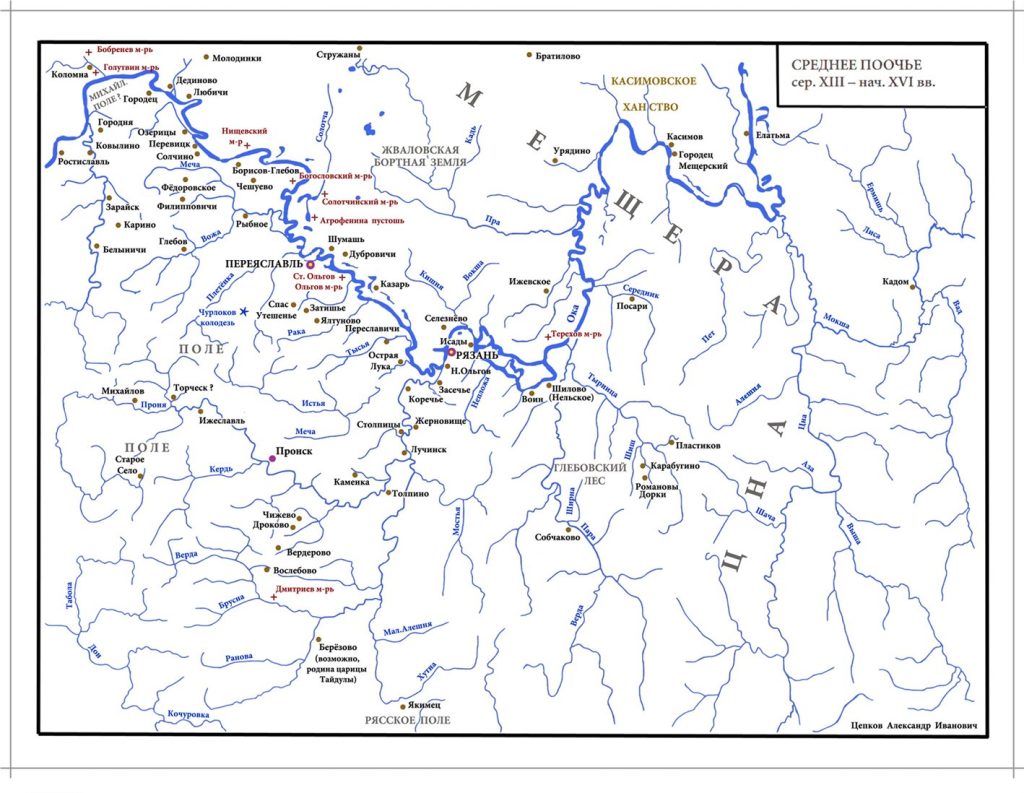
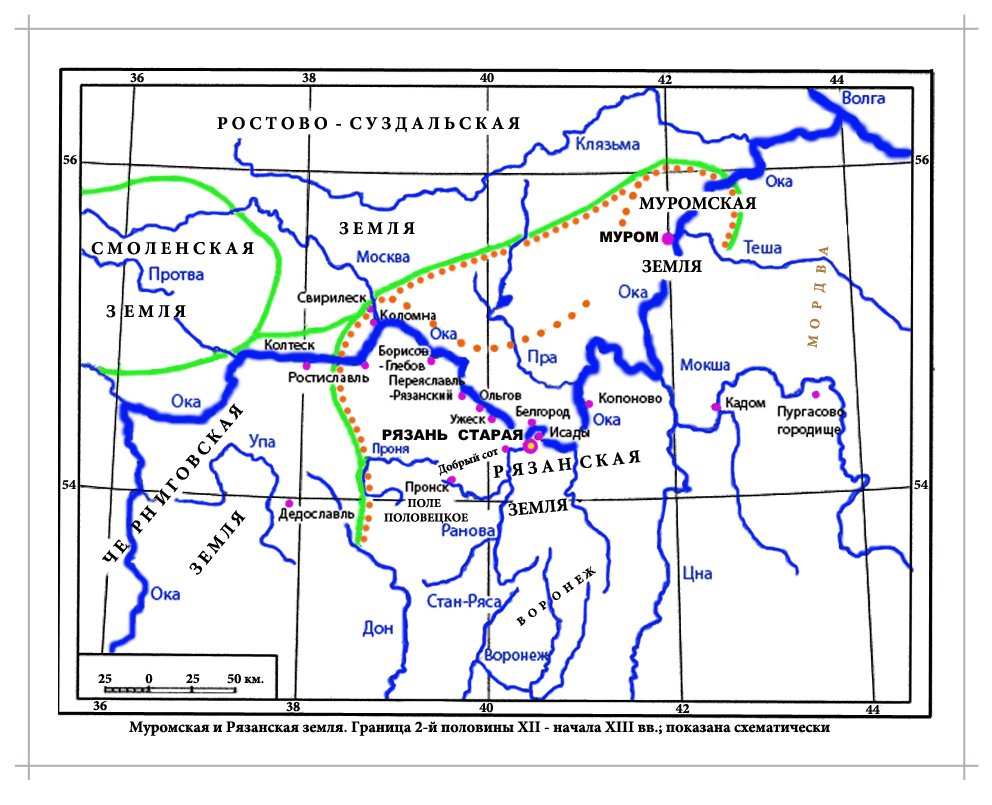
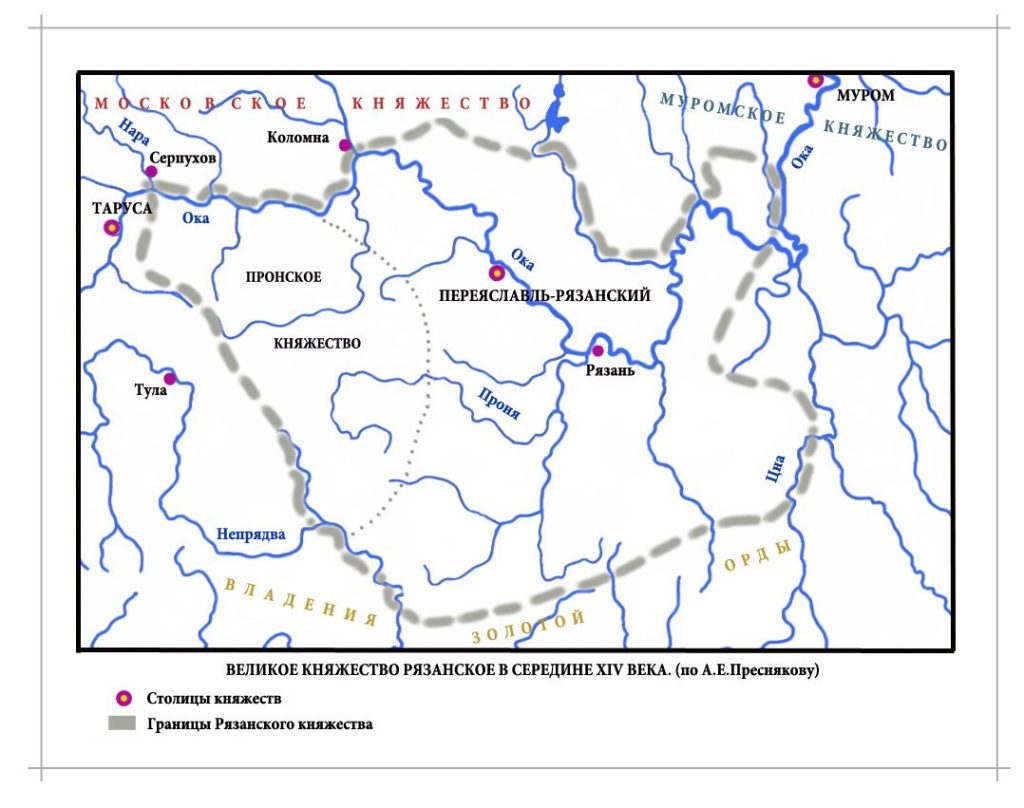
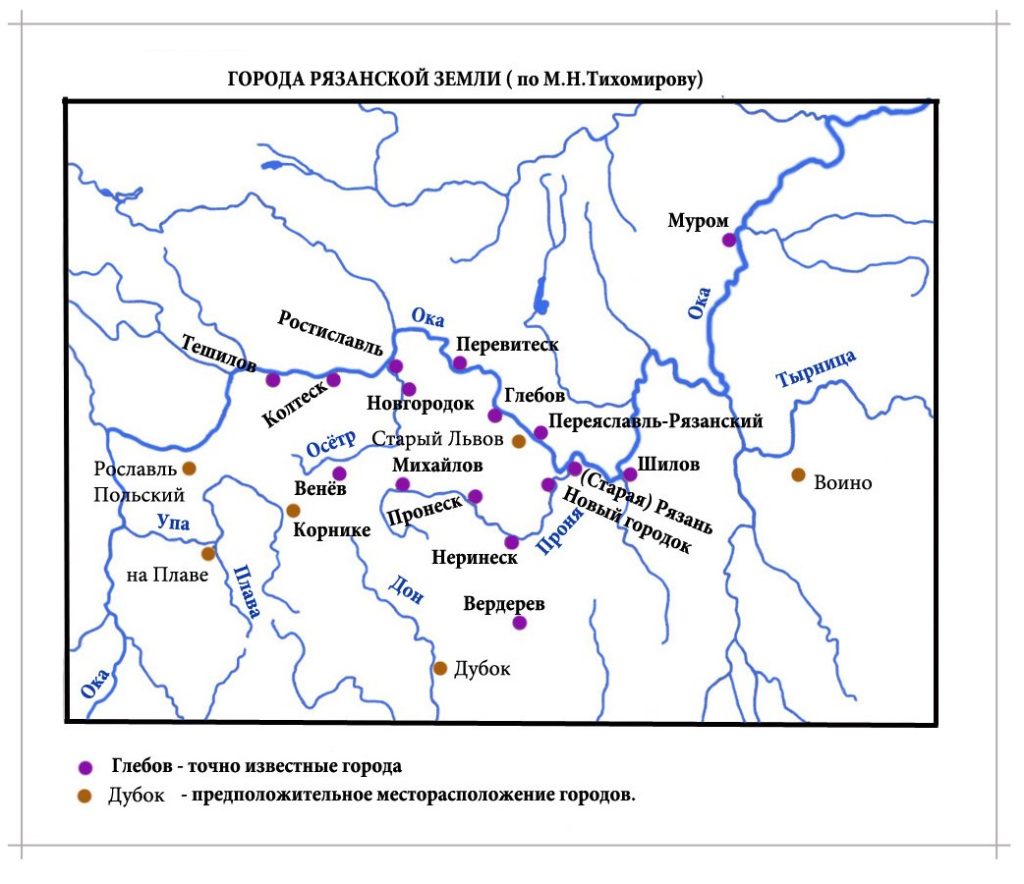
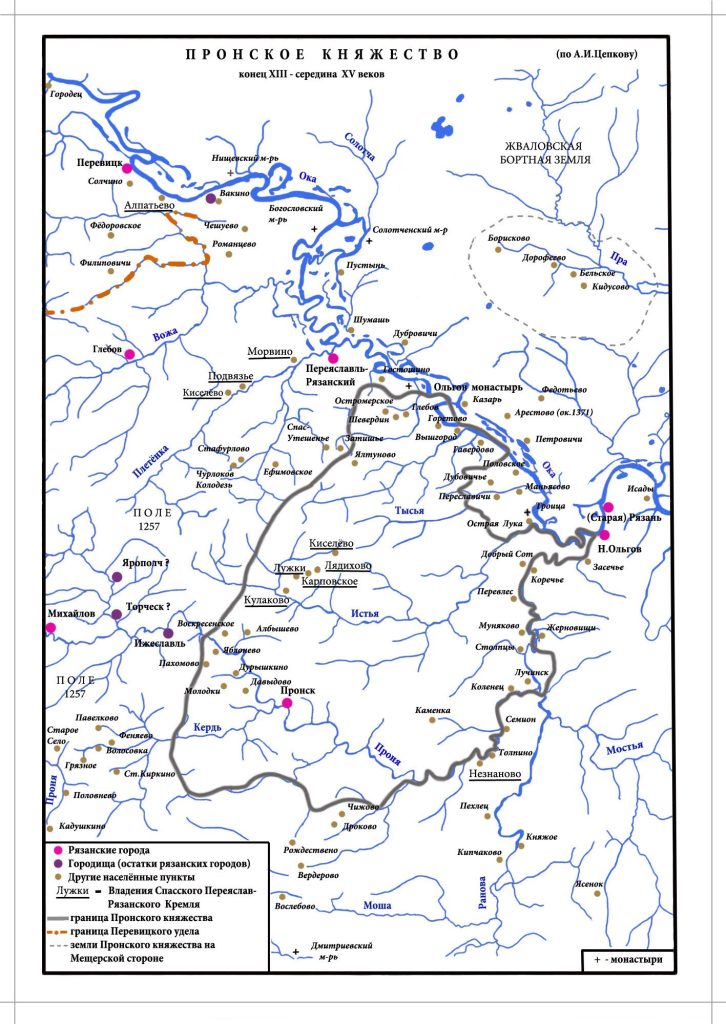
Геральдика і сфрагистика

Рязанский князь Олег Иванович (1350–1402) начал ставить на ордынских монетах (и на подражаниях ордынским монетам) специфический рязанский знак. Иногда он назывался рязанской тамгой, иногда «куньей мордой», иногда «бараном». У нумизматов закрепилось условное название монет с таким знаком — «мордки». С течением лет тамга несколько трансформировалась, первые ее варианты представляют просто «галочки», затем внутри закруглений появились точки; на некоторых монетах вместо точек видны лица людей. Позже такая же тамга ставилась на рязанских монетах с русскими надписями.

Точно такая же тамга встречается и на некоторых рязанских печатях. Фото — предположительно княжеская печать 14–15 века из фондов рязанского краеведческого музея. На печати присутствует также фигура коня. Відомо, що початково герб Пронських мав, очевидно, зображення, яке в пізнішій геральдичній літературі дістало назву „Сокольничий” (рицар на коні, що тримає на руці птаха) – його було вміщено на печатці київського воєводи князя Семена-Фридриха Глібовича Пронського від 1548 – 1555 р.р. в супроводі літер: FP1; втім, вже від кінця ХVІ ст. на печатках князів Пронських незмінно присутнє зображення Погоні – озброєного pицаря на коні. Герб Пронських привертає увагу з огляду на те, що має зображення Погоні литовської2, незважаючи на те, що Пронські вели свій родовід від Рюрика, а не Гедиміна3. Дана обставина беззастережно спростовує твердження про можливість визначення династичної приналежності до Гедиміновичів в разі наявності Погоні в гербі певного княжого роду.

На печати великой рязанской княгини Аграфены Васильевны (XV в.) изображена женская голова без головного убора4.
Сфрагистичні пам’ятки. Аграфена Васильевна, жена вел.кн. рязанского Ивана Васильевича (XV в.). Прикладная черновосковая печать. Изображение женской головы без головного убора, вправо. Круговая надпись: «ПЕЧАТЬ ВЕЛИКИЕ КНЕГИНИ ОГРОФЕНЫ». Сохранилась при данной и отводной грамоте великой княгини Аграфены Покровского монастыря Аграфениной пустыни (1506 г.) — АСЭИ.Ш. 346. Хран.: ГБЛ. Муханова. № 73.
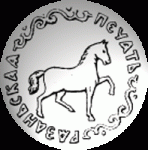
«Печать Рязанская» — элемент Большой государственной печати Ивана Грозного (70‑е годы XVI в). На этой печати изображался идущий конь.
Известна также печать, приложенная к фальсифицированной грамоте Олега Ингваревича Ивану Шае5, якобы выданная в 1256/57 гг., которая выглядит анахронично6. На ней изображен воин с мечом, традиционно понимаемый как князь (Олег Иванович), хотя вероятнее, что прообразом послужил Михаил Архангел7. Такой герб Рязань приобрела с начала XVII в.8 Еще Карамзин считал данный акт подложным: «1) писана на бумаге; 2) слогом новым (вместо лета писано в ней года, также Ингваревичь вместо Ингваричь, и проч.); 3) восковая печать прилеплена, а не привешена, как обыкновенно в старину делали»9.
Поколенная роспись рода князей Рязанских, Муромских и Пронских
РОСПИСЬ ОСНОВАНА НА ВЫВОДАХ ВЛАДИМИРА БЕЗРОДНОВА И АЛЕКСЕЯ БАБЕНКА С НЕКОТОРЫМИ СОБСТВЕННЫМИ ИСПРАВЛЕНИЯМИ.
- Рюрик, князь Новгородский
- Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945
- Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972
- Владимир I, великий князь Киевский +1015
- Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054
- Святослав-Николай Ярославич князь Черниговский, великий князь Киевский
VII генерація від Рюрика
1. КН. ЯРОСЛАВ-ПАНКРАТИЙ СВЯТОСЛАВИЧ (1071/1072 — 1129)
князь муромский и черниговский, родоначальник рязанских и муромских князей, умер в Муроме, в 1129 году; младший сын киевского князя Святослава Ярославича и Оды, вероятно, дочери маркграфа Луитпольда Бабенберга, внук Ярослава Владимировича Мудрого. С 1123 по 1126 год княжил в Чернигове и, с 1097 по 1123 год и с 1126 по 1129 год — в Рязани и Муроме. Упоминается в летописях под следующими годами: 1096, 1097, 1101, 1103, 1123, 1124, 1127–1130.
Родился, скорее всего, в 1071 или 1072 году, поскольку брак между его родителями был заключен в 1070 или 1071 годах, а на миниатюре в Изборнике Святослава Ярослав изображён уже не младенцем. По некоторым сведениям, воспитывался в Германии, куда вынужден был бежать вместе с матерью после смерти отца. По легенде, Ода унаследовала от Святослава большие сокровища, но не смогла вывезти их все и большую часть спрятала. Позднее, вернувшись на Русь, Ярослав их нашёл[1]. Впервые появляется на страницах летописи в 1096 году[2][3] в связи с участием в войне на востоке Руси (Муром, Рязань, Ростов, Суздаль) против Владимира Мономаха на стороне своего брата Олега. Святославичи были тогда разбиты на р. Колокше братьями Мстиславом Владимировичем и Вячеславом Владимировичем и половцами. После поражения Ярослав ушёл в Муром, с приходом под городом войск Мстислава заключил с ним мир. В 1097 году, вместе с братьями Олегом и Давыдом участвовал в съезде князей в Любече, на котором Черниговское княжество было разделено на три удела. Чернигов достался Давыду Святославичу, Новгород-Северский Олегу Святославичу, а Муромо-Рязанское княжество, как самое дальнее и малозначительное, отошло к младшему брату — Ярославу. 1101 году Ярослав вместе с другими князьями участвовал в заключении мира с половцами в Золотче. 4 марта 1103 года потерпел поражение от мордвы[4].
Ярослав Святославич становится черниговским князем после смерти Давыда Святославича. До смерти Давыда в 1123 году Ярослав владел Муромским княжеством, в которое входила в то время и Рязань. С переходом Ярослава из Мурома в Чернигов в 1123 году в Муроме сел Всеволод Давыдович.
В 1127 году Всеволод Ольгович выгнал Ярослава Святославича, своего дядю, из Чернигова в борьбе за Черниговский престол: «[…] въıгна Ѡлговичь Всеволодъ . своѥго стръı[ӕ] . Ӕрослава . ис Чернигова . и дружину ѥго исѣче . и разграби»10. Князь киевский Мстислав Владимирович, объединившись с братом Ярополком Переяславским, пошёл на Всеволода (Мономаховичи пошли против Ольговичей), требуя, чтобы тот вернул Чернигов Ярославу. Всеволод же действовал более не оружием, а подарками, подкупая киевских бояр, чтобы они были ему заступниками перед великим князем, и так тянулось до самой зимы. Зимой Ярослав пришёл из Мурома в Киев и стал торопить Мстислава, моля его о помощи. Мстислав, ещё прежде обещавший защищать Ярославову вотчину и целовавший на том крест, совсем уже было собрался в поход, но тут игумен Андреева монастыря Григорий, всем известный, как человек праведный и честный, отговорил его. Мстислав помирился со Всеволодом, а Ярослава отослал в Муром, не вернув ему вотчину.
Именно изгнание Ярослава Святославовича можно рассматривать как начало выхода Муромо-Рязанских земель из-под власти князей Чернигова. Первоначально это было скорее внутриродовая сепарация. Напомним, что Всеволод Ольгович нарушил лествичное
право в отношении своего дяди Ярослава Святославовича. Обиду князя Ярослава усугублял отказ великого князя киевского Мстислава Владимировича (1125–1132) вступиться и отстоять его законные притязания.на черниговский престол. Через два года Ярослав скончался. Погребён в Муроме.
С Ярославом Святославичем иногда отождествляется святой благоверный князь Константин Святославич Муромский[5]. Констатин Святославич известен по своему житию, написанному в XVI веке, и неизвестен по летописям. Согласно житию он окончательно обратил Муром в христианство и построил там церкви. Время жизни этого князя установить достаточно сложно. Кроме отождествления его с Ярославом Святославичем существуют и другие версии, так, О. Рапов полагал его сыном Святослава Древлянского.Известно имя жены Констатина — Ирина (упоминается только в «Житии» её мужа, а также изображена в некоторых житийных иконах. Погребена в Муромском Благовещенском соборе. Является местночтимой муромской святой). Из «Жития» также известны их дети:Михаил Константинович — почитается общероссийским святым; погиб в Муроме в малолетстве от рук язычников. Феодор Константинович — почитается общероссийским святым, наследовал муромский престол после кончины своего отца; иногда отождествляется с Юрием Ярославичем.Память Констатина Муромского празднуется 21 мая/3 июня. Канонизирован вместе с сыновьями Макарьевским собором в 1547 году.
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из соборного синодика рязанского Свято-Духова монастыря со своей женой 11.
∞, АГАФИЯ ….. …… († 1124) 12.
Дети: Юрий (умер 1143) — князь Муромский 1129—1143. Святослав (умер 1145) — князь Рязанский 1129—1143, князь Муромский 1143—1145. Ростислав (умер 1153) — князь Пронский 1129—1143, Рязанский 1143—1145, Муромский 1145—1153.
VIII генерація від Рюрика
2/1. КН. ЮРИЙ ЯРОСЛАВИЧ МУРОМСКИЙ († 1143)
князь муромский (1129—1143)
После смерти отца в 1129 году, Юрию, как старшему сыну, достался муромский престол. После смерти Юрия в 1143 году муромский престол занял второй Ярославич Святослав, рязанский престол занял младший из Ярославичей Ростислав, занимавший до этого пронский престол.
Вперше Юрий згадується після смерті батька, у літописній статті 1129 р.: «[…] а на Муроме и на Резани осталися дети его: Ростиславъ, да Святославъ да Юрьи; и Ростиславъ да Святославъ были на Рязани, а Юрьи на Муроме».13 Столицю князівства за правом зайняв найстарший брат.14 У 1132 р. літописець занотував: «Того же лета крестися в Рязани Половецкый князь Амуратъ».15
Наступне літописне свідчення про Муромо-Рязанське князівство датується 1133 р.: «Того же лета иде Вячеславъ къ Рязани».16 Йдеться про В’ячеслава (1183–1154) сина Володимира Мономаха (1053–1125). Таке коротке свідчення не зовсім зрозуміле, а тому його слід співставити з нотаткою Никонівського літопису 1134 р.: «Того же лета пріиде изъ Рязани въ Переаславль князь Вячеславъ Володимеричь, и посла къ нему князь Ярополкъ Володимеричь, глаголя: седи не волнуася, не взивай права Половецкаго; Вячеслаъ же не послуша брата свеого Ярополка Володимеричя и иде к Турову».17 У літописниму повідомленні 1133 р., напередодні походу В’ячеслава до Рязані сказано: «Того же лета Вячеславъ, сынъ Володимеръ Манамашь, пачя лишатися Переаславля, и дошедь Городца, и паки воротися в Переаславль».18 Візит В’ячеслава до Рязані того ж року варто розглядати не як військову агресію, а відвідини можливих союзників (пам’ятаємо, що двома роками раніше рязанці завдали нищівної поразки половцям).
1135 р. «убіенъ бысть въ Рязани тысяцкой Иванъ Андеевичь, нарецаемый Долгій»19, а 1137 р.: «въ Рязани убиша въ загоне богатиря Печенежскаго Темирьхозю».20 Такі фрагментарні дані радше свідчать про традиційну конфронтацію зі степом.
Сведений о жене и потомстве Юрия Ярославича не сохранилось. Умер бездетным, нам сообщает еще Бархатная книга: «А Юрья былъ на Муроме; не стало его бездетна…»
21
3/1. КН. СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ І МУРОМСЬКИЙ († 1145)
старший брат основателя Рязанской ветви Ростислава (+1153), сын Ярослава Святославича, князь рязанський (1129–1143 рр.) і муромський (1143–1145 рр.). За В.Татищевим, був рязанським князем з 1127 р. , а за Воскресенським літописом ділив це князівство з братом Ростиславом. Останнє навряд чи правильно. Під 1131 р. згадується орокський князь, котрим міг бути тільки Ростислав Ярославич.
Вперше Святослав згадується після смерті батька, у літописній статті 1129 р.: «[…] а на Муроме и на Резани осталися дети его: Ростиславъ, да Святославъ да Юрьи; и Ростиславъ да Святославъ были на Рязани, а Юрьи на Муроме».22 Столицю князівства за правом зайняв найстарший брат.23 У 1132 р. літописець занотував: «Того же лета крестися в Рязани Половецкый князь Амуратъ».24
Наступне літописне свідчення про Муромо-Рязанське князівство датується 1133 р.: «Того же лета иде Вячеславъ къ Рязани».25 Йдеться про В’ячеслава (1183–1154) сина Володимира Мономаха (1053–1125). Таке коротке свідчення не зовсім зрозуміле, а тому його слід співставити з нотаткою Никонівського літопису 1134 р.: «Того же лета пріиде изъ Рязани въ Переаславль князь Вячеславъ Володимеричь, и посла къ нему князь Ярополкъ Володимеричь, глаголя: седи не волнуася, не взивай права Половецкаго; Вячеслаъ же не послуша брата свеого Ярополка Володимеричя и иде к Турову».26 У літописниму повідомленні 1133 р., напередодні походу В’ячеслава до Рязані сказано: «Того же лета Вячеславъ, сынъ Володимеръ Манамашь, пачя лишатися Переаславля, и дошедь Городца, и паки воротися в Переаславль».27 Візит В’ячеслава до Рязані того ж року варто розглядати не як військову агресію, а відвідини можливих союзників (пам’ятаємо, що двома роками раніше рязанці завдали нищівної поразки половцям).
1135 р. «убіенъ бысть въ Рязани тысяцкой Иванъ Андеевичь, нарецаемый Долгій»28, а 1137 р.: «въ Рязани убиша въ загоне богатиря Печенежскаго Темирьхозю».29 Такі фрагментарні дані радше свідчать про традиційну конфронтацію зі степом.
4/1. КН. РОСТИСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ († 1153)
Помер у 1153 р.. Князь пронський (1129–1143 рр.), рязанський (1143 ‑1145 рр .) і муромський (1145- 1153 рр.). У 1145 р., переходячи на старший стіл у Муромі, залишив у Рязані свого старшого сина Гліба, ігноруючи права племінників Святославичів. Пронський князь Давид Святославич підняв бунт і був позбавлений свого стола. З 1146 р. Святославичі вже шукали щастя у Ольговичів. Боротьба між обома гілками муромських князів тривала у 1147- 1151 рр. в рамках загальної усобиці за київський престол. У ході цієї боротьби Ростислав втрачав значні частини своєї землі і, тільки після поразки Юрія Довгорукого на р.Руті у 1151 р., відновив сюзеренітет над усіма володіннями.
Вперше Ростислав згадується після смерті батька, у літописній статті 1129 р.: «[…] а на Муроме и на Резани осталися дети его: Ростиславъ, да Святославъ да Юрьи; и Ростиславъ да Святославъ были на Рязани, а Юрьи на Муроме».30 Столицю князівства за правом зайняв найстарший брат.
У 1143 р. помер Юрій Ярославович, не залишивши по собі дітей.31 До Мурома, відтак переїхав наступний по старшинству брат – Святослав, а Ростислав залишився одноосібним володарем Рязані. Проте вже 1145 р. помер Святослав Ярославович і Муром відійшов Ростиславові: «[…] Ростиславъ седе на столѣ а Рязаню послаша меншего Ростиславича Глеба».32 При такому розвитку подій порушувалися лествичні права Святославовичів, «синівців»33 Ростислава Ярославовича. Ті були змушені шукати підтримки ростово-суздальського князя Юрія Довгорукого (1190–1157) і його союзника сіверського князя Святослава Ольговича († 1164). Тим часом Ростислав Ярославович, а відтак і його син Гліб підтримали київського князя Ізяслава Мстиславовича (1097–1154) у назріваючому протистоянні з Юрієм.
У 1146 р. загострилося протистояння між київським володарем Ізяславом і сіверським князем Святославом, останнього ж підтримав Юрій Довгорукий. Того ж року літописець відмітив: «и послася Изяславъ Мьстислаличь полемъ къ Ростиславу Ярославличю у Рязань»34 і далі: «послушавъ же Изяславля Мстислалича Ростиславъ и поча стеречи волости его. Дюрдеви же бысть весть, оже Ростиславъ воюеть волость его, и пусти Дюрги сына свого Иванка къ Святославу, а самъ узратися изъ Козельска»35. Зрозуміло, що Ростислав вирішив вступити у війну, відкрито підтримавши київського князя. На таке рішення могли вплинути два фактори: по-перше, в стані ворогів Ізяслава
Мстиславовича, поміж інших, перебували законні рязанські князі, ображені обмеженням своїх прав Святославовичі (Володимир і, можливо, його брати Давид та Ігор). Вони
становили загрозу Ростиславовій монополії на Муромо-Рязанську землю36. По-друге, неможливо було ігнорувати стрімке зростання військового і політичного потенціалу
Суздальського князівства на чолі з Юрієм Довгоруким, що в перспективі, безперечно, могло б становити загрозу Муромо-Рязанській землі.
Вибір коштував Ростиславові надто дорого. Того ж 1146 р. «поидоста Гюргевича, Ростиславъ и Андрей, къ Рязаню на Ростислава на Ярославича; Ростиславъ же выбежа изъ Рязаня в Половцекъ Ельтукови»37. Юрій Довгорукий відправив проти нього.своїх синів – Ростислава (†1151) та Андрія Боголюбського (†1174). Розуміючи, що в.боротьбі із суздальцями йому не вистояти, Ростислав змушений був покинути вотчину і тікати до половців, уперше ставши князем-ізгоєм.
Цікавим є свідчення літописця про втечу Ростислава до хана Ельтука, імовірно пов’язаного з руським князем матримоніальними зв’язками. Літописи «мовчать» про
дружину Ростислава, однак в історіографії існує думка, що нею могла бути дочка або родичка половецького володаря38. Таке припущення виглядає вірогідним, адже рязанські князі жили в постійному взаємозв’язку зі степом, нерідко вели війни з кочівниками, укладали мирні угоди, де шлюб розглядався запорукою дотримання таких домовленостей. У такому разі втеча Ростислава до тестя вважалася б цілком логічною.
34 Ипатьевская летопись. – Стб. 26.
35 Там же.
36 Иловайский Д. И. Указ. соч. – С. 42.
37 Ипатьевская летопись. – Стб. 29.
38 Гагин И. А. Рязань и половцы / И. Гагин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.i‑gagin.ru/content_art‑4.html; Донской Д. В. Указ. соч. – С. 549
В 1146 году рязанский князь Ростислав Ярославович под давлением Ростислава († 1151) и Андрея, позже прозванного «Боголюбским» († 1174), Юрьевичей был вынужден бежать к половецкому князю Ельтуку: «[…] поидоста Гюргевича Ростиславъ. Андрѣи ж къ Рѧзаню на Ростислава на Ӕрославич̑ Ростиславъ же въıбѣже изъ Рѧзанѧ в Половцѣ . къ Ельтоукови» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 29]. Вероятнее всего, Ростислав состоял в родственных отношениях с этим половецким ханом [Гагин, И. А. Рязань и половцы / И. А. Гагин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.igagin.ru/content_art‑4.html. – Дата доступа: 20.12.2017.], возможно, был его зятем (альтернативные мнения по этому поводу считаем слабо доказанными с точки зрения исторической перспективы [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність князя: реконструкція подій (частина перша) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 6. – 2015. – С. 81–86., с. 81–86]). Также стоит отметить, что владимирские князья выступали в этом походе в роли защитников вышеупомянутых Святославовичей, племянников Ростислава Ярославовича, утесненных в своих правах.
Отже, Ростислав Ярославович покинув Муромо-рязанську землю, залишивши
вакантні княжі престоли в Муромі та Рязані41
, які за вірну службу Юрій Довгорукий
віддав синівцям Ростислава – Володимиру і Давиду Святославовичам. У 1147 р. Давид
Святославович помер42 і Рязань відійшла до його родича Ігоря43
.
41 Окремого дослідження вимагає доля рязанського князя Гліба Ростиславовича, що входить у майбутні
плани автора.
42 Никоновская летопись. – С. 172.
43 Постать Ігоря також є цікавою, але не до кінця зрозумілою. Не відомо, чи це був брат, чи син Давида
Святославовича. Детальніше див.: Иловайский Д. И. Указ. соч. – С. 44–45; Карамзин Н. М. История
государства Российского / Н. Карамзин. – СПб., 1818. – Т. 2. – С. 176, прим. № 300.1154 год: Ростислав Ярославович был изгнан из Рязани (повторно) Юрием Владимировичем «Долгоруким»: «Того же лѢта посади Юрьи сына свого въ Рязани, а Рязанскаго князя Ростислава прогнав въ Половцы. Потомъ Ростиславъ совокупя Половцы, поиде на ОндрѢа ночью, ОндрѢй же одва утече объ одномъ сапогѢ, а дружину его овѢхъ изби, а другіа засувъ во яму, а иные истопиша въ рецѢ, а князь ОндрѢй прибеже къ Мурому и оттоле Суждалю» [Полное собрание русских летописей. – Т. 20: Львовская летопись. – Ч. 1. – СПб., 1910., с. 117]. Как видим, на рязанский престол князь Юрий отправил своего сына, Андрея, позже прозванного «Боголюбским». Любопытно, что, как заметил А. Кузьмин, летописи владимиро-суздальской традиции не знают об этом событии, звучавшем диссонансом к рассказам о подвигах Андрея на юге. Ученый предполагает, что в Львовскую летопись известие попало из общего с Ермолинской летописью источника – предполагаемого свода третей четверти XV века [Кузьмин, А. Г. Рязанское летописание: сведения летописей о Рязани и Муроме до середины XVI века / А. Г. Кузьмин. – М., 1965. – 286 с.Кузьмин, А. Г. Рязанское летописание: сведения летописей о Рязани и Муроме до середины XVI века / А. Г. Кузьмин. – М., 1965. – 286 с., с. 98]. Источники умалчивают о причинах нового конфликта между Юрием Владимировичем и Ростиславом Ярославовичем. Возможно, речь шла о продолжении многолетнего конфликта, фазы которого сменялись от латентной до активной [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність
князя: реконструкція подій (частина друга) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 8. – 2016. – С. 50–58., с. 55]. Примечательным считаем, что во время своего второго изгнанничества Ростислав.опять нашел защиту и поддержку у половцев, что свидетельствует не только о личных родственных связях с половецкой элитой, но и тесных.двусторонних связях в целом.
5/1. КН. ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВИЧ [?]
За В.Татищевим був єлецьким князем і одружився з дочкою київського князя Всеволода Ольговича (1467, с. 160). З інших джерел невідомий.
IX генерація від Рюрика
6/3. КН. ДАВИД СВЯТОСЛАВИЧ ПРОНСЬКИЙ І РЯЗАНСЬКИЙ († 1147)
Загинув бл. 1147 р. (120, с. 172). Князь пронський (1143–1146 рр.) і рязанський (1147 р.).
князь Пронский 1143 — 1146 и Рязанский в 1147 г. (упоминается как великий князь Рязанский в Никоновской летописи. Видимо занял Рязань после изгнания своего дяди Ростислава.
7/3. КН. ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ МУРОМСЬКИЙ († 1162)
Помер у 1162 р. Князь муромський (1147–1151, 1153–1162 рр.). При ньому Муромська земля розділилась на рязанську і муромську частини. Старша гілка нащадків Ярослава Святославича відстояла своє право на Муром.
князь Муромский в 1147 — 1151 и 1153 ‑1162.
Умер в Рязани. В 1146 году пришёл на помощь Святославу Ольговичу против Изяслава Мстиславича, но вынужден был бежать из Муромо-Рязанской земли от войска последнего в Новгород-Северский. В 1147 году заключил союз с Юрием Долгоруким в Москве, где был принят вместе со со Святославом Ольговичем, его сыном Олегом.
В 1146 году Владимир Святославович († 1162), был вынужден покинуть Муромо-Рязанскую землю и бежать к новгород-северскому князю Святославу Ольговичу: «[…] прибѣже . ѿ строӕ Ст҃ославичь Володимиръ Ӕрославль вноукъ къ Ст҃ославоу Новоугородоу» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 25]. Здесь стоит упомянуть, что годом ранее, в 1145 г., в Муроме умер Святослав Ярославович, отец Владимира. Муромский стол по праву перешел к младшему брату Святослава – Ростиславу Ярославовичу († после 1154), дяде Владимира. При таких обстоятельствах, согласно лествичному праву, Рязань должна была перейти к детям умершего Святослава Ярославича, коих осталось трое (по старшинству): Давид († 1147), Игорь († после 1149) и упомянутый уже Владимир. Однако, Ростислав Ярославович решил не принимать во внимание родовые права своих племянников и посадил в Рязани своего старшего сына Глеба († 1177): «[…] Ростиславъ седе на столѣ а Рязаню послаша меншего Ростиславича Глеба» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 21]. Нам неизвестно, предпринял ли Ростислав какие-либо репрессии против своих племянников. Однако, очевидно, что обиженные таким положением вещей Святославовичи пытались найти правосудие у соседних князей – политических оппонентов своего дяди-обидчика. Скорее всего, именно с такой целью Владимир Святославович и отправился в Новгород-Северский.
8/3. КН. ІГОР СВЯТОСЛАВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ († після 1147)
У 1147 р., напевно по смерті Давида Святославича, зайняв рязанський престол. У 1148 р. Рязань була відвойована Ростиславом Ярославичем. Дальша доля Ігоря Святославича невідома.
В 1149 году Игорь Святославович был вынужден покинуть Рязань и бежать к Юрию Владимировичу «Долгорукому» в Киев: «Того же лета пріиде изъ Рязани въ Кіевъ къ великому князю Юрью Владимеричю князь Игорь Давыдович» [Полное собрание русских летописей. – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – М., 2000., с. 182]. Стоит отметить, что Игорь Святославович был назван летописцем вторым по счету великим князем рязанским. Первым так именуется его брат и предшественник Давид Святославович, после смерти которого в 1147 г. Игорь и занял престол [Полное собрание русских летописей. – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – М., 2000., с. 172]. Очевидно, летописец допустил ошибку, написав «Игорь Давыдович», а не «Святославович», то есть сын, а не брат покойного Давида Святославовича [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність князя: реконструкція подій (частина друга) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 8. – 2016. – С. 50–58., с. 52]. По этому поводу стоит упомянуть три обстоятельства. Во-первых, у покойного Давида Святославовича не было детей, по крайней мере, никаких летописных сведений ни о супруге, ни о потомках великого князя летописец не оставил. Во-вторых, запись о прибытие «Игоря Давыдовича» относится к 1149 г., а мы знаем, что к тому времени именно Игорь Святославович уже два года занимал рязанский престол. И, в‑третьих, существует предположение, что именно в этот период Ростислав Ярославович сумел отбить Рязань у своего племянника и восстановить свои права на родовую вотчину [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність князя: реконструкція подій (частина друга) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 8. – 2016. – С. 50–58., с. 52–53]
9/4. КН. ГЛІБ РОСТИСЛАВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 30.06.1177)
Помер 30.06. 1177 р. у в’язниці у Володимирі на Клязьмі (112, стб.605). Князь рязанський (1145–1147, 1152- 1177 рр.). Був одружений з дочкою Ростислава Юрійовича. Потрапив у полон після невдалої битви на р.Колокші (20.02.1177 р.) у ході війни за Суздальську спадщину, у якій рязанський князь підтримував Ростиславичів.
В 1146 году Глеб Ростиславович, сын Ростислава Ярославовича, предположительно бежал в полоцкие земли. В Воскресенской летописи в статье 1146 г. читаем: «а Глеба взяли съ Рязани на Дрючеськ» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 154]. Большинство исследователей игнорируют данное летописное свидетельство. Однако, в той же Воскресенской летописи в статье 1159 г. читаем: «Дрючане Глеба отъ себе выгнаша, а у себе посади Рогволда Борисовича, внука княжа Юрия Долгорукого; а Глебъ иде опять . на Рязань» [Полное собрание русских летописей. – Т. 2: Ипатьевская летопись. – СПб., 1843., с. 154]. Таким образом, если верить летописцу, Глеб Ростиславович провел в Друцке около 13 лет! Представляется, что данная страница биографии Глеба Ростиславовича заслуживает отдельного исследования. Носенком уже была произведена постановка вопроса по данному поводу [Носенко, А. А. Гліб Ростиславович друцький: нащадок мінських князів, чи рязанський вигнанець? / А. А. Носенко // V Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19 жовтня 2016 р. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016., с. 15–17].
10/4. КН. АНДРІЙ РОСТИСЛАВИЧ († після 1147)
В 1147 году Андрей Ростиславович (единственное упоминание в 1147 г.), сын Ростислава Ярославовича, бежал из Ельца в Чернигов, к князьям Давыдовичам: «Того же лѢта пріиде изъ Резани съ Елца князь АндрѢй Ростиславичь къ Давыдовичемъ въ Черниговъ и совѢщашеся укрѢпишася вси за единъ» [Полное собрание русских летописей. – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – М., 2000., с. 173]. Считаем интересным факт побега Андрея из Муромо-Рязанской земли через год после бегства отца (Ростислава Ярославовича, см. выше) и старшего брата (Глеба Ростиславовича, также см. выше). Более того, местом своего убежища Андрей выбрал Чернигов, князья которого тайно перешли на сторону новгород-северского князя Святослава Ольговича и владимиро-суздальского князя Юрия Владимировича «Долгорукого» († 1157), врагов его отца,
Ростислава Ярославовича. Причину такого выбора Андрея тяжело объяснить, но вполне возможно, что младший Ростиславович вступил в сговор с противниками своего отца для получения неких выгод.34
Історична традиція вважає Андрія старшим сином Ростислава Ярославовича див.: Иловайский Д. И. Указ. соч. – С. 330; Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия : в 2 т. / [автор-составитель В. В. Богуславский]. – Т. 1. – М.,
2005. – С. 33. Однак прямих свідчень щодо старшинства в літописах немає. У такому випадку незрозуміло, чому Гліба, посадили у Рязані (!), а Андрієві надали Єльць.35 Або це чергове порушення лествичного права, або Андрій міг бути молодшим за Гліба.
X генерація від Рюрика
13/. КН. РОМАН-БОРИС ГЛІБОВИЧ ПРОНСЬКИЙ І РЯЗАНСЬКИЙ († 1216)
Старший сын кн. Глеба Ростиславича. Помер у 1216 р. в суздальській в’язниці (1468, с. 199). Князь пронський (? ‑1177 рр.) і рязанський (l 178‑1207 рр.). Из помянника рязанского синодика в неделю православия, следует, что «княжеским» именем Романа Глебовича было Борис. Одружився з дочкою київського князя Святослава Всеволодовича. Намагався протистояти підпорядкуванню Рязанської землі володимиро-суздальським князям.
В летописях впервые упоминается в связи с участием под началом отца в 1177 г. в битве на р. Колокше против владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.36 Дошедшая до нашего времени в выписках «Роспись князьям рязанским»6 указывает на участие кн. Романа и в предшествовавших столкновению и ставших поводом для него захвате и сожжении кн. Глебом Москвы, что представляется вполне вероятным.37 Итогом битвы стали поражение рязанцев и владимирский плен отца и сына. Вскоре кн. Глеб Ростиславич скончался в заключении, а его сын по ходатайству черниговского епископа Порфирия был отпущен на родину.38 Кн. Роман Глебович немедленно приступил к исполнению функций старшего в роду, возглавив успешный поход на половцев.39
Под 1180 г. летописи сообщают о междоусобице в Рязанской земле, в ходе которой Всеволод и Владимир Глебовичи выступили против кн. Романа и прочих братьев и при помощи все того же владимирского князя Всеволода добились перераспределения волостей в свою пользу.40 При этом Роман Глебович бежал от войск Всеволода Юрьевича, прозванного позже «Большим Гнездом» († 1212), куда-то мимо Рязани, предположительно к половцам [Иловайский, Д. И. Исторія Рязанскаго Княжества / Д. И. Иловайский. – М., 1858. – 331 с., с. 65]. Лаврентьевская летопись предлагает весьма детальное описание этих событий: «В тож̑ лѣт̑ . Присластасѧ Глѣбовича . Всеволодъ . и Володимеръ . ко Всеволоду Юргевичю . рекуще . тъı гс̑нъ тъı ѡц҃ь . брат̑наю старѣишии Романъ . оуимаєть волости оу наю . слушаӕ тестѧ своѥго Ст҃ослава . а к тобѣ крс̑тъ цѣловалъ и переступилъ . кнѧзь же Всеволодъ иде к Рѧзаню . и бъıвшю ѥму оу Коломнъı . срѣтоста и та брата кнѧжича с поклоном̑ . кнѧзь же Всеволодъ приӕ єю в любовь . и поидоша ѿ Коломнъı . ту в Коломнѣ Ст҃ославича Глѣба ӕ . кнѧзь Всеволодъ . и посла и в Володимерь . сторожеве же Романови перебродилисѧ бѧху чересъ Ѡку . и оусрѣтошасѧ с нашими сторожи . и Бъ҃поможе нашим̑сторожемъ . ѡни.же побѣгоша а наши погнаша . и притиснуша ихъ к рѣцѣ Ѡцѣ . ини избиша . другъıӕ изъимаша . а ини истопоша . Роман же то слъıшавъ
побѣже в поле мимо Рѧзань . а братью свою Игорѧ . и Ст҃ослава затвори в Рѧзани . кнѧзь же Всеволодъ иде к Рѧзаню . взѧ городъ Борисовъ Глѣбовъ . пришед же к Рѧзаню миръ створи с Романомъ . и со Игоремъ . на всеи воли Всеволожи цѣловаша кртъ . и порѧдъ створивъ всеи братьи . роздавъ имъ волость ихъ . комуждо по старѣишиньству . възвратисѧ в Володимерь».41 Как видим, бегство Романа не было длительным. При этом не до конца понятно, был ли Роман Глебович в Рязани на момент подхода войск Всеволода Юрьевича, или владимирские полки осадили город с находящимися там младшими братьями Романа, Игорем († 1195) и Святославом († после 1207), а Роман уже подошел к Рязани со стороны степи. Во всяком случае, был заключен мир, и Роман опять получил рязанский престол.
В 1183 г. кн. Роман Глебович участвовал в походе кн. Всеволода Юрьевича на волжских болгар.42 В 1186 г. междоусобный конфликт в Рязанском княжестве возобновился. Противостояние кн. Роману опять возглавил Всеволод Глебович, но на этот раз при поддержке уже другого их брата, Святослава. Разрешить конфликт опять удалось лишь при вмешательстве кн. Всеволода Большое Гнездо.43 В 1196 г. кн. Роман Глебович присутствовал во Владимире на свадьбе сына кн. Всеволода Юрьевича, Константина, и в том же году – на «постригах», обрядовой стрижке волос другого сына Всеволода, Владимира.44 В 1205 г. кн. Роман совершил еще один весьма успешный поход на половцев.45
Под 1207–1208 гг. летописцы рассказывают об обширном и протяженном конфликте между Владимирским и Рязанским княжествами, начавшемся с того, что кн. Роман Глебович был оклеветан перед кн. Всеволодом Юрьевичем своими племянниками, Глебом и Олегом Владимировичами, обвинившими дядю в тайном сношении с врагами Всеволода, черниговскими Ольговичами.46 Кн. Роман был задержан владимирским князем после очной ставки с Глебом и Олегом и со всей своей свитой отправлен во Владимир.47 Летописец Переяславля Суздальского сообщает о смерти Романа Глебовича в плену, от которого рязанские князья были освобождены лишь после кончины кн. Всеволода Юрьевича в 1212 г.48 Иные сведения о времени смерти кн. Романа содержит труд В. Н. Татищева, в изложении которого князь умер после продолжительной болезни непосредственно перед княжеским съездом в с. Исады, состоявшемся в 1217 г.49
Роман был женат на дочери Святослава Всеволодича, правнучке Олега Святославича, причем в статье 1180 г. Святослав Всеволодич именуется тестем Романа, и, следовательно, этот брак был заключен ранее.50 В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем утверждение о том, что у Романа детей не было. Его имя фигурирует здесь под 1177 г. с пометой «бездѣтенъ». Однако мы едва ли можем принять эту помету как безоговорочное доказательство того, что этот князь вовсе не имел потомства. С одной стороны, эта запись могла фиксировать его семейную ситуацию лишь к 1177 г. С другой стороны — и это, на наш взгляд, еще более существенно, — данная часть Воскресенской летописи, описывая генеалогию рязанских князей, вообще отражает далеко не всех персонажей, известных нам по другим источникам. В целом эта генеалогия выглядит следующим образом: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. Нетрудно убедиться, что здесь в старшем поколении не указан, например, Ярослав Глебович, а в младшем — Роман Игоревич. Таким образом, мы наблюдаем определенные противоречия между добавлениями к Воскресенской летописи и другими источниками. При существующей запутанности генеалогии рязанских князей мы не рискнем назвать ни одну из этих противоречивых версий полностью ошибочной. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.51 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.
Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].
∞, ранее 1180, АННА СВЯТОСЛАВНА ЧЕРНИГОВСКАЯ, дочь Святослава-Гавриила Всеволодича, правнучка Олега Святославича.
14/. В. КН. ІГОР-СТЕФАН ГЛІБОВИЧ († після 1195)
Помер після 1195 р. У 1186–1195 рр. згадується як удільний рязанський князь.
В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем следующую генеалогию: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.52 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.
∞, МАРИНА .... .
15/. КНЖ. NN ГЛІБІВНА († після 1180)
Померла після 1180 р. (бо була на похоронах мужа). Бл. 1176 р. видана за торопецького князя Мстислава Ростиславича Хороброго.
16/. КН. ВОЛОДИМИР ГЛІБОВИЧ БЕЛОГОРОДСКИЙ († після 1186)
Князь пронський (1180 — після 1186 рр.) (1332, с. 122)
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика как князь Белогородский53.
В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем следующую генеалогию: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.54 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.
17/. КН. ВСЕВОЛОД-МИХАИЛ ГЛІБОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 1207)
Помер у 1207 р. в Пронську. Князь пронський (1180–1207 рр.). Щоб утримати свою частку у Пронському князівстві став васалом володимиро-суздальського князя Всеволода Велике Гніздо.
1186 год: пронский князь Всеволод Глебович († после 1207) был фактически изгнан из Пронска своими братьями. Причиной конфликта было стремление старших братьев утеснить права младших Глебовичей на пронский престол. Мир, заключенный в 1180 г. при активном вмешательстве великого владимирского князя Всеволода Юрьевича, просуществовал недолго. Уже в 1186 г. Роман, Игорь и Владимир († после 1195) Глебовичи опять начали угрожать отобрать Пронск у младших братьев
Всеволода и Святослава. Тогда Всеволод Глебович обратился за помощью к владимирскому князю Всеволоду Юрьевичу, своему давнему союзнику (возможно даже сюзерену, насколько этот термин вообще может быть применим к междукняжеским отношениями на Руси).
Всеволод Юрьевич отправил сообщение рязанским князьям: «[…] оуслъıшав же Всеволодъ великъıи кнѧзь Гюргевичь правовѣренъ съıи . боӕсѧ Ба҃и не хотѧ видѣти кровепролитьӕ в них̑ . посла к ним̑из Володимерѧ слъı своӕ в Рѧзань . къ Глѣбовичем̑к Роману . и къ Игорю . и Володимеру . гл҃ѧ имъ . брат̑ӕ что тако дѣлаєте . не дивно ѡже нъı бъıша погании воѥвали . а се нонѣ хочете брату своєю оубити…» [20, стб. 401]. Однако Роман с братьями проигнорировали обращение владимирского князя, начав подготовку к осаде Пронска. На повторную просьбу Всеволода Глебовича о помощи владимирский князь отправил в Пронск отряд в 300 дружинников. А после первых столкновений под городом Всеволод Юрьевич отправил в подкрепление своего свояка Ярослава Владимировича († после 1195) и муромских князей Давида († 1228) и Владимира († 1203) Юревичей.55 Это остудило пыл старших Глебовичей, и они ретировались. Всеволод Глебович вышел из Пронска и направился на встречу с Ярославом, Давидом и Юрием к Коломне, оставив младшего брата Святослава охранять город. После соединения с союзниками у Коломны, Всеволод отправился во Владимир-на-Клязьме, на совет к великому князю. В это время старшие Глебовичи, пользуясь отсутствием Всеволода, опять обложили Пронск. Оставленный в городе Святослав Глебович сумел организовать
оборону и отбивался от старших братьев до тех пор, пока те не перекрыли воду. После этого старшие братья предложили Святославу сдаться, открыть ворота города, выдать жену, дружину и бояр Всеволода Глебовича, на что Святослав вынужден был согласиться. Летописец записал: «[…] дружинъı Всеволожи повѧзаша всѣх̑ . жену же ѥго и з дѣтми . а свою ӕтровь ведоша в Рѧзань . и боӕръ ѥго . и имѣньѥ ихъ розоимаша . и Володимерци многъı повѧзаша . иже бѧху послани в засаду къ нимъ…».56 Узнав об этом, Всеволод Глебович занял Коломну, превратив ее в свой опорный пункт в войне с братьями. Позже, при поддержке владимирской рати, Всеволод все же смог утвердиться в Пронске. Однако это не отменяет факт временного изгнания Всеволода Глебовича с пронского престола. Отдельно стоит коснуться коломенского княжения Всеволода. Дело в том, что на сегодняшний день не до
конца понятно, кому именно принадлежал находящийся на чернигово-рязанско-владимирском пограничье город. В таком случае неизвестно, своими ли силами Всеволод Глебович занял Коломну или же получил ее в управление от владимирского князя Всеволода Юревича.
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика как князь Пронский со своей женой 57. В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем следующую генеалогию: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.58 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.
∞, ЕВФРОСИНИЯ …… …… .
18/. КН. СВЯТОСЛАВ-ФЕДОР ГЛІБОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († після 1207)
Помер після 1207 р. у суздальському полоні. Князь пронський (1180? ‑1207 рр.).
В статьях, помещенных перед летописью по Воскресенскому списку, мы встречаем следующую генеалогию: «А Глѣбовы дѣти Рязаньского: Романъ, бездѣтенъ, да Игорь, да Володимеръ, да Всеволодъ да Святославъ …> а Игоревы дѣти Ингворъ да Юрьи. А Володимеровы сынове: Глѣбъ, да Костянтинъ, да Олегъ да Изеславъ; а Святославли дѣти Проньского Мстиславъ да Ростиславъ; а Всеволожь сынъ Киръ Михаилъ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 242]. В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.59 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.
Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].
19/. КН. ЯРОСЛАВ-ПАНКРАТИЙ ГЛІБОВИЧ († після 1199)
Сын . Из помянника рязанского синодика в неделю православия, следует, что христанским именем Ярослава Глебовича было Панкратий.
существует туманная фраза Лаврентьевской летописи в описании попытки перемирия под 1187 г. о неких «мужах» Ярослава, брата рязанского князя Святослава Глебовича.60 Безусловным можно считать лишь единственное летописное известие: о его женитьбе в 1198 г. на дочери великого князя киевского Рюрика Ростиславича, Всеславе. Еще одно известие добавляет труд В. Н. Татищева, по словам которого именно кн. Ярослав Глебович в том же 1198 г. «по согласию с братьями» был главным ходатаем перед тестем, великим князем Рюриком, об отделении Рязанского княжества от Черниговской епархии с учреждением особой епископии.61
В описании конфликтов между братьями Глебовичами, относящихся к 70‑м — 80‑м гг. XII в., фигурируют Всеволод и Владимир Глебовичи, позднее среди участников упоминаются Игорь и Святослав, причем в летописной статье 1186 г. Роман, Игорь и Владимир именуются старшими братьями, а Всеволод и Святослав Глебовичи — младшими.62 Ярослав же (по-видимому, самый младший из всех братьев) в описании этих столкновений не фигурирует вовсе.
∞, Всеслава Рюриковна, д. Рюрика Ростиславича.
20/. КН. [РОСТИСЛАВ] АНДРІЙОВИЧ [ГЕОРГІЄВИЧ] (1176)
Очолював у 1176 р. окрему дружину у битві проти шурина — лопасненського князя Олега Святославича.
В жпизоде описания попытки перемирия под 1187 г. содержится некий перечень князей «рязанской стороны». В нем названы Роман, Игорь, Владимир, Святослав и Ростислав. Загадочный Ростислав, явно не принадлежащий к поколению Глебовичей, присутствует во всех трех списках Лаврентьевской летописи.63 Возможно, здесь упомянут сын Андрея Ростиславича.
21/. КНЖ. …… АНДРІЇВНА [ГЕОРГІЇВНА] († після 1176)
До 1176 р. видана за Олега Святославича, тоді князя лопасненського.
XI генерація від Рюрика
26/. КН. ІНГВАР-ІОАКИМ ІГОРЕВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ († 1235)
Князь рязанський (1217–1235 рр.). У 1207–1212 рр. був у володимирському полоні. Під час снему в Ісадах був залишений братом Романом у Рязані, що врятувало йому життя. Відстояв Рязань від спроб Гліба Володимировича, а у 1219 р. розгромив його. Одно упоминание в Лаврентьевской летописи под 6740 (зима 1232/33 г.): «Тоє же зимы. Посла великыи князь Георги сына своего Всеволода на Мордву а с ним Федоръ Ярославич и Рязаньскъии князи и Муромскъии и пожгоша села их а Мордъвъу избиша много».
В описи Савво-Сторожевского монастыря 1676 г., к которому, согласно царскому указу от 9 июля 1651 г., был приписан Ольгов монастырь, значится запись: «Великого князя Ольга Ивановича Резанского жалованная вотчиная грамота, писана на хартии, в возглавии Деисусов образ Спасов, а в молении великий князь Вольг да игумен того монастыря Арсений, а году в той грамоте не написано (л. 43 об.), гораздо ветха». В ней в третьей статье, отсылая к «давним грамотам», послужившим образцом для грамоты Олега, повествуется об истории закладки обители, называет имена князей-храмоздателей и количество участвующих в акции бояр и дружинников: «А возревъ есмь въ да[вн]ыи грамоты, съ о(т)цемь своимь, съ вл(ады)кою с Вас[илье]мь и съ бояры, коли ставили по первы(хъ) [праде]ди наши с(в³)тую Б(огороди)цю, кн³(зь) великии Инъгваръ, кн[³(зь)] Олегъ, кн³(зь) Юрьи, а с ними бояръ 300, а мужии 600». Закладке монастыря князьями Ингварем, Олегом и Юрием предшествовали трагические обстоятельства. В ходе борьбы за великокняжеский стол два родных брата, князья Глеб и Константин Владимировичи, организовали заговор против князей-родственников. 20 июля 1217 г. князья и бояре съехались в летнюю княжескую резиденцию ― Исады, где и были убиты заговорщиками. Опоздавший на съезд Ингварь Игоревич спасся. В 1218―1219 гг. он вместе с союзниками разбил Владимировичей и сел на великое княжение в Рязани. В ознаменование победы и состоялась, по-видимому, закладка монастыря «на Олгове». [РГАДА, ф. 281, оп. 15, № 9821; Семина М. В. Грамота Олега Рязанского : Лицевой список второй половины XVII в. // Древняя Русь : Вопросы медиевистики. 2009. № 3 (37). С. 103―104.40. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРЛ. М., 2000. Т. 10. С. 77―78. 28 Там же. С. 79, 81―82; Летопись по Воскресенскому списку // ПСРЛ. М., 2001. Т. 7. С. 126.].
Помер у 1235 р.
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из соборного синодика со своей женой 64. Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].
∞, ЕВФРОСИНИЯ …... …... . 65
27/ КН. ЮРІЙ ІГОРЕВИЧ († 21.12.1237)
У 1207–1212 рр. був у суздальському полоні. Може успадкував старший рязанський престол по смерті Інгваря Ігоревича і загинув в бою з ординцями у 1237 р.?
кн. рязанский, сын рязанского кн. Игоря Глебовича († 1195). Сведения о муромо-рязанских князьях скудны, поскольку местное летописание сохранилось крайне фрагментарно. Дополнительные сложности вносит генеалогическая путаница, характерная для Повести о разорении Рязани Батыем, к‑рая служит одним из основных источников сведений о гибели Г. И. Повесть является составной частью Повестей о Николе Заразском (Зарайском) и, по общепринятому до недавнего времени мнению Д. С. Лихачёва, сложилась, вероятно, в XIV в., хотя восходит к рассказам XIII в. Однако в последнее время Б. М. Клосс, развивая т. зр. А. Поппе, попытался доказать, что весь комплекс Повестей о Николе Заразском был составлен в 1560 на основе Московского летописного свода 1479 г.
Впервые Г. И. упоминается в летописи под 1207 г.: 22 сент. вел. кн. владимиро-суздальский Всеволод (Димитрий) Юрьевич Большое Гнездо «повеле изъимати» и заточить во Владимире Г. И. с его старшим братом Ингварем и неск. др. рязанскими князьями по обвинению (справедливость к‑рого под вопросом) в сговоре с черниговскими князьями. На свободу рязанские князья вышли в 1212 г., после смерти Всеволода. Каким именно уделом в Рязанском княжестве владел Г. И. до и после пленения, неизвестно. Следуя спрямленному родословию, приведенному в списке рязанских князей в приложении к Воскресенской летописи 66, Юрия Рязанского, фигурирующего в 1207 г., в историографии иногда отделяют от Юрия, погибшего в 1237 г., считая первого братом, а второго сыном Ингваря Игоревича 67. Однако тот факт, что Г. И. не назван в связи с трагическими для рязанских князей событиями 20 июля 1217 г., когда шестеро из них были коварно убиты в Исадах под Рязанью собственным братом кн. Глебом Владимировичем, не может служить основанием для предположения, что к этому времени Г. И. уже не было в живых. Ведь в рассказе Новгородской Первой летописи о нашествии монголо-татар на Муромо-Рязанскую землю, к‑рый лучше всего отразил историческую основу Повести о разорении Рязани, рязанский князь прямо назван «Юрьем, Инъгворовым братом» 68.
После смерти Ингваря Игоревича, к‑рая в летописях не отмечена, а у В. Н. Татищева отнесена к 1235 г. 69, Г. И. остался старшим среди рязанских князей, под рукой к‑рого в 1237 г. выступили его племянники блгв. князья Олег (Косма) и Роман Ингваревичи. (Вероятно, именно Г. И. имеется в виду в жалованной грамоте рязанского вел. кн. Олега Иоанновича (1350–1402) (АИ. Т. 1. № 2), в к‑рой «князь Юрьи» поименован в ряду строителей Успенского собора в Рязани наряду с Ингварем Игоревичем и Олегом Ингваревичем, занимавшим рязанский стол до 1258.) Когда в кон. 1237 г. монголо-татары подошли к границам Рязанского княжества, Г. И. отказался подчиниться требованию Батыя дать «десятину во всем», одновременно отправив посольство к владимиро-суздальскому кн. св. Георгию (Юрию) Всеволодовичу с просьбой о помощи. Рязанский по происхождению рассказ об этих событиях, вошедший в новгородское летописание, ставит в вину Георгию Всеволодовичу, что тот не внял просьбам рязанских князей. Однако из самого рассказа видно, что суздальские войска под предводительством блгв. кн. Всеволода (Димитрия) Георгиевича и воеводы Еремея все же выступили, но опоздали и вместе с войсками Романа Ингваревича были разбиты монголо-татарами под стенами Коломны.
16 дек. 1237 г. Г. И. был осажден в Рязани, 21 дек. город пал. Во время разгрома столицы княжества погиб и Г. И. с супругой и матерью, причем о последней (блгв. кнг. Агриппине) сообщает только Повесть о разорении Рязани. Повесть же вводит в рассказ о последних днях Г. И. ряд подробностей: увещание к братьям (надо: племянникам) о том, что лучше «испити чашу смертную за святыа Божиа церкви и за веру христьянскую», «нежели в поганой воли быти»; моление в кафедральном Успенском соборе перед иконами Пресв. Богородицы, свт. Николая и святых Бориса и Глеба; благословение от епископа. Не все эти подробности могут быть признаны достоверными, т. к. по летописным источникам известно, напр., что Рязанского епископа во время осады в городе не было. Согласно Повести, тела Г. И., его жены и др. погибших рязанских князей были погребены в Рязани вернувшимся сюда кн. Ингварем Ингваревичем, к‑рого нашествие застало в Черниговской земле; впрочем, др. источниками такой князь не засвидетельствован. Уникальным является также сообщение Повести о том, что у Г. И. был сын — княживший в Зарайске блгв. кн. Феодор Георгиевич. Он претерпел мученическую смерть в ставке Батыя, куда был послан отцом для переговоров. Однако, как показал В. А. Кучкин, Зарайск как город появился только в 1527–1531 гг., ранее это было село с ц. во имя свт. Николая.
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из соьорного синодика со своей женой 70.
Согласно сведениям летописных и историко-литературных источников, первые контакты рязанского княжеского дома с дипломатическими представителями и военно-политической элитой Монгольской империи произошли накануне вторжения войск Чингизидов в пределы русских земель поздней осенью 1237 г. 71. Провал переговоров о заключении мирного соглашения послужил формальной причиной вторжения монгольских войск в пределы Рязанского княжества. Во время боевых действий зимы 1237/38 гг. погибает вся семья рязанского князя Юрия Ингваревича, возглавившего вместе с братьями (Олегом и Романом Ингваревичами) сопротивление завоевателям 72.
В 1237 г., в начале зимы, татары двинулись из Болгар через мордовские земли на юго-запад и остановились на р. Онузе1833. Отсюда Батый послал к рязанским князьям послов, двух мужей и какую-то «жену-чародеицу» с требованием десятины в князьях, людях, в конях каждой масти: белых, вороных и т. д.1834 Великий князь рязанский Юрий Игоревич собрал из родичей совет, на котором решено было стоять против татар до последней крайности. В таком смысле и дан был ответ татарским послам, которые, после того, пошли далее, во Владимир, с такими же требованиями. Юрий Игоревич, посоветовавшись с князьями и боярами, послал одного из племянников своих Ингваревичей к вел. кн. владимирскому Юрию Всеволодовичу, а другого — к Михаилу Всеволодовичу черниговскому с просьбой присоединиться к нему против общего врага1835. Между тем, сами рязанские князья, соединив свои дружины, пошли к берегам р. Воронежа; в то же время Юрий Игоревич отправил к Батыю посольство с сыном своим Федором во главе1836. Но ни просьбы оставить Рязанскую землю в покое, ни дары не имели успеха; а между тем князья, к которым Юрий Игоревич посылал за помощью, отказались от последней: Юрий Всеволодович надеялся одними собственными силами справиться с врагом, а черниговские князья, по некоторым известиям1837, не хотели дать помощи потому, что рязанские князья, в свое время, не были на р. Калке, где русским князьям в первый раз пришлось познакомиться с монголами. В таких критических обстоятельствах Юрий Игоревич решился укрывать свои силы в укрепленных городах, хотя, конечно, дело не могло обойтись без стычек и в открытом поле1838.
Истребив по пути города: Пронск, Белгород и Ижеславец, татары, в половине декабря, подступили к Рязани и обнесли ее тыном. Пять дней граждане защищались до изнеможения; на шестой татары сделали общий приступ, ворвались в город. и началось поголовное истребление жителей: Юрий Игоревич был убит; его супруга с родственницами и боярынями укрылась в соборной церкви Бориса и Глеба, но не избежала общей печальной участи; граждан распинали, связывали им руки и стреляли в них, как в цель; «оскверняли святыню храмов насилием юных монахинь, знаменитых жен и девиц в присутствии издыхающих супругов и матерей»... Пограбивши и предавши здесь все огню и мечу, татары двинулись по направлению к Москве1839. Только теперь великий князь владимирский высылает против татар сына своего Всеволода и воеводу Еремея Глебовича с владимирскими полками; с ними был и рязанский князь Роман Ингваревич. Pyccкиe князья разбиты были наголову: Всеволод Юрьевич бежал во Владимир, — Роман Ингваревич и воевода Еремей Глебович легли на поле битвы1840.
Лаврентьевская летопись сообщает о гибели Юрия Ингваревича при обороне Рязани: «…Татарове же взяша град Резань того же месяца…и пожгоша весь и князя Юрья оубиша и княгиню его…» 73. Новгородская I летопись, отмечая факт руководства обороной Рязани князем Юрием Ингваревичем, умалчивает о его судьбе после падения города: «…князь же Рязаньскыи Юрьи затворися въ граде с людми; князь же Романъ Ингоровичь ста битися противу ихъ съ своими людьми…».74 Согласно информации, содержащейся в Ипатьевском своде, рязанский князь был захвачен в плен во время взятия города и казнен позднее: «…взяша градъ Рязань копиемъ, изведшее на льсти князя Юрия, и ведоша Пръньску; бебо в то время княгини его в Пръньскы; изведоша княгиню его на льсти, убиша Юрия и княгиню его…».75 Типографская летопись также отмечает гибель всей семьи князя Юрия.76 Позднейший Никоновский летописный свод содержит информацию о полевом сражении объединенных сил княжества с монгольской армией и последовавшей за этим осаде Рязани: «…Князи же Рязаньстiи и Муромстiи и Пронстiи изшедше противу безбожных, и сотворишасъ ними брань, и быстъ сеча зла и одолеша безбожнiи Измаилтяне, и бежаша князи во грады своя».77 Согласно летописному сообщению, после разгрома рязанско-пронско-муромских дружин войска Чингизидов осадили Рязань и другие города княжества: «Татарове же, рассвирепеше зело начаша воевати землю Рязанскую съ великою яростию, и грады ихъ разбивающе, и люди секуще и жгуще, и поплениша ю и до Проньска. И придоша окаяннiи иноплеменицы подъ град ихъ столный Рязань месяца декабря в 6 денъ, и острогом оградиша его, князи же Рязанстiи затворишася во граде сълюдми и крепко бившеся и изнемогоша. Татарове же взяша градъ ихъ Рязань того же месяца въ 21, и пожгоша весь. А князя великого Юрья Ингваровича убиша, и княгиню его и иныхъ князей побиша».78
Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].
∞, ИРИНА ….. ….. . 79
Ист.: НПЛ; ПСРЛ. Т. 1; Т. 2; Т. 4. Ч. 1; Т. 6. Вып. 1; Т. 7 (по указ.); Лихачёв Д. С. Повести о Николе Заразском: (Тексты) // ТОДРЛ. 1946. Т. 7. С. 257–406; Повесть о разорении Рязани Батыем / Изд.: И. А. Лобакова // БЛДР. 1997. Т. 5. С. 140–155.
Лит.: Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. М., 1965; Лихачёв Д. С. Повести о Николе Заразском // СККДР. Вып. 1. С. 332–337 [Библиогр.]; Лобакова И. А. Проблема соотношения старших редакций «Повести о разорении Рязани Батыем» // ТОДРЛ. 1993. Т. 46. С. 36–52; Клосс Б. М. Избр. тр. М., 2001. Т. 2. Очерки по истории рус. агиографии XIV-XVI вв. С. 409–463; он же. История создания Повести о Николе Зарайском // Зарайск. Т. 1: Ист. реалии и легенды. М., 2002. С. 114–177; Кучкин В. А. Ранняя история г. Зарайска и проблема ее источников // Там же. C. 103–108.
КН. ОЛЕГ-ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ
О существование кн. Олега Игоревича известно из подлинного средневекового акта. В грамоте великого князя рязанского Олега Ивановича, выданной около 1371 г. рязанскому Ольгову монастырю, подтверждались пожалования, которые при основании монастыря кн. Олег Игоревич осуществил вместе с братьями Ингварем и Юрием.80 Присутствие в рязанском синодике в неделю православия поминовения по кн. Павлу-Олегу Игоревичу в значительной степени снимает сомнения в историчности этой персоны. При этом явно вырисовывается основная причина возникновения противоречий вокруг данной фигуры. Исследователи, допускавшие существование двух одноименных князей, предполагали, что в «Повести о разорении Рязани Батыем» описывается смерть дяди, в то время как его племянник остался жив.81 Однако в произведении данный персонаж преимущественно называется Ингваревичем, что и вызывало у части авторов вполне логичное желание тем или иным образом отказать в реалистичности фигуре его дяди. При этом хронология записей рязанского синодика, располагающая поминовение по кн. Олегу перед именем кн. Ингваря Игоревича, свидетельствует в пользу того, что он умер раньше брата, то есть до 1235 г. Следовательно, скорее всего, до столкновения рязанцев с монголами кн. Павел-Олег Игоревич не дожил.
Историография.Первым из исследователей внимание на данный документ обратил Д. И. Иловайский, который использовал его для доказательства достоверности сообщения «Повести о разорении Рязани Батыем» о смерти рязанского князя Олега Ингваревича Красного в ходе монгольского нашествия зимы 1237/38 г.48 На несоответствие рассказа «Повести…» о казни кн. Олега и летописных сообщений о его длительном нахождении в монгольском плену и возвращении домой в 1252 г. указал еще Н. М. Карамзин.49
Д. И. Иловайский утверждал, что существовало два Олега: дядя, Олег Игоревич, убитый монголами, и племянник, Олег Ингваревич, увезенный ими в Орду. У точки зрения историка нашлись как сторонники, так и противники. Н. А. Баумгартен в составленной им генеалогической таблице отметил обоих князей.50
А. В. Экземплярский назвал кн. Олега
Игоревича «сомнительной» фигурой, отмечая, что не находит для себя возможности окончательно решить данный вопрос. Разбирая текст из грамоты Ольгова монастыря, генеалог обратил внимание на то, что напрямую братьями Ингварь, Олег и Юрий не названы, полагая, что, употребляя термин «прадеды», кн. Олег Иванович мог указать и на «более отдаленных предков, притом разных колен или степеней». А. В. Экземплярский счел возможным проигнорировать сообщение «Повести…» о казни Олега Красного, указывая в биографии князя лишь его пленение и последующее освобождение монголами.51 А. Е. Пресняков, следуя в русле рассуждений А. В. Экземплярского, прямо называет фигуру кн. Олега «мнимой». Причиной возникших проблем историк считал путаницу имен Игорь и Ингварь.52 И немедленно сам попал в ту же ловушку. Анализируя запись из акта кн. Олега Ивановича, историк указал, что грамота «вызывает большое сомнение перечнем “прадедов” в[еликого] к[нязя] Олега: Ингварь, Олег, Юрий. Первые двое – Ингваревичи? Но как попал на третье место Юрий, их дядя?»53
Высказывая данное соображение, историк упустил из вида, что как раз рязанский князь Ингварь Игоревич является безусловно исторической фигурой, в то время как его сын Ингварь Ингваревич известен лишь из литературного
48 Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. С. 206; Лихачев Д. С. Повести
о Николе Заразском. С. 291, 312, 319, 332, 333, 353, 372, 396. 49
Лаврентьевская летопись. Вып. 2. Стб. 473, 475; Карамзин. Н. М. История государства Российского. СПб., 1818. Т. 3. Примечания. С. 204, примеч. 357, с. 205. 50
Baumgarten N., de. Généalogie des branches régnantes de Rurikides du XIII‑е au XVI‑е siècle // Orientalia Christiana. 1934. Vol. 35–1, № 94, iunio. P. 74, 75, 79. Tab. 14. 51
Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2. С. 570–572, примеч. 1842. 52
Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. М., 1997. С. 403, 404,
примеч. 4. 53
Там же. С. 404, примеч. 5. 204
произведения.54 К выводу о том, что под Олегом в грамоте имеется в виду кн. Олег Ингваревич, склонялся Б. А. Романов.55
Некоторые исследователи, затрагивавшие вопросы генеалогии рязанских князей, например А. Г. Кузьмин и О. М. Рапов, полностью замалчивали проблему существования кн. Олега Игоревича. Как представляется, это должно означать, что данные авторы не допускали историчности данной фигуры.
А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский также отрицают возможность существования двух Олегов – дяди и племянника. В своей аргументации исследователи обращают внимание на то, что во многих летописях упоминается кн. «Олег Ингваревич, внук Игорев», в то время как ни один летописный текст именования его дяди не содержит. Вероятной причиной появления данной фигуры в историографии авторы называют трудности в восприятии текстов Новгородской первой и Лаврентьевской летописей, повествующих о разорении Рязанской земли в 1237–1238 гг.56
При этом при разборе вопроса о кн. Олеге Игоревиче А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенским текст грамоты Ольгову монастырю – источника, представляющегося краеугольным в данной проблематике, – никак не рассматривается. Думается, данное обстоятельство значимо умаляет убедительность аргументации исследователей. Игнорируется проблематика вероятной историчности персоны кн. Олега Игоревича и в работе С. А. Петрова.57 К воззрению о существовании двух одноименных князей предлагает вернуться А. В. Кузьмин. Автор предпочитает опираться на прямое прочтение записи Новгородской первой летописи о событиях 1237–1238 гг. в Рязанской земле, говорящей об участии в них князя Юрия, бывшего братом кн. Ингваря, и сыновей Ингваря Романа и Олега. В таком случае, по мнению А. В. Кузьмина, по причине отсутствия в записи грамоты Ольгова монастыря имени кн. Романа не остается ничего другого, как признать ее перечислением трех братьев: Ингваря, Олега и Юрия. Их пожалование монастырю исследователь датирует периодом с 1219 (вокняжение Ингваря Игоревича) по 1235 г. (его смерть, согласно указанию В. Н. Татищева).58
54 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей… С. 285–296. 55 Романов Б. А. Элементы легенды в жалованной грамоте вел. кн. Олега Ивановича
Рязанского Ольгову монастырю // Проблемы источниковедения. М.; Л., 1940. Вып. 3. С. 215. 56
Там же. С. 290, примеч. 69. 57 Петров С. А. Рязанская земля во второй половине XIII – начале XV в.: дис. … канд.
ист. наук. Белгород, 2011. С. 32, 33. 58
Кузьмин А. В. Рязанские, пронские и муромские князья… С. 40. 205
28/. КН. СВЯТОСЛАВ-ВАСИЛИЙ ИГОРЕВИЧ ПРОНСКИЙ († 1217)
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика как князь Пронский со своей женой 82. Он получает имя весьма престижное у всех многочисленных потомков Святослава, сына Ярослава Мудрого. При этом такой выбор в высшей степени соответствует и тенденциям, существующим в локальной семейной традиции Глебовичей, потомков Глеба Ростиславича. Скорее всего, мальчик становится тезкой своего живого дяди, подобно тому как один из его кузенов, Роман Игоревич, сделался тезкой своего дяди, Романа Глебовича.
Убит в Исадах в 1217 г.
∞, НАСТАСИЯ ….. ….. . 83.
29/. КН. ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 1219)
Загинув у 1219 р. Удільний пронський князь (1207–1217 рр.). У 1207 р. обмовою стриїв спровокував інтервенцію володимиро-суздальського князя Всеволода Велике Гніздо, яка привела до тимчасової окупації рязанської частини землі. У 1209 р. невдало намагався оволодіти Рязанню. У 1217 р. разом з рідним братом Костянтином на снемі в с.Ісади (за 6 км від Рязані) організував різню решти рязанських князів. З допомогою половців у 1219 р. намагався знову взяти Рязань, але був розбитий і загинув у степу.
Глеб Владимирович, сын Владимира Глебовича. Самые ранние летописные известия о нем относятся к октябрю 1196 г., когда вместе с отцом Глеб присутствовал в Москве на свадьбе сына великого князя Всеволода Юрьевича, Константина, и на постригах его другого сына, Владимира. В следующем году Рязанцы и Муромцы вместе с великим князем Всеволодом принимали участие в междоусобиях Черниговских и Смоленских князей. Как зять Давида Ростиславича Смоленского, Глеб, был послан последним против Ольговичей, напавших на Смоленские земли. В течение десяти последующих лет летописи молчат о Глебе. Между тем, в эти годы один за другим умерли сыновья Глеба Ростиславовича, отец и дяди Глеба Владимировича (Владимир, Игорь, Всеволод и Ярослав); оставались в живых только дяди Глеба — Роман и Святослав, родные братья Глеба — Олег, Константин и Изяслав, и его двоюродные братья, сыновья Игоря (Ингварь, Роман, Глеб, Юрий и Олег) и Всеволода (сын его Кир-Михаил) Глебовичей. Произошел новый раздел Рязанских волостей и, следовательно, новые распри. Среди недовольных оказался Глеб Владимирович с братом Олегом. По-видимому, братья жаловались великому князю Всеволоду Юрьевичу на своих дядей, но, не получив удовлетворения, затаили до случая обиду против родственников. В 1207 г. великий князь Всеволод, отправляясь в поход против Киевского князя Всеволода Чермного, послал звать к себе, между прочим, Рязанских князей. Направляясь к Оке на соединение с ними, Всеволод получил донос, что Глебовичи вступили уже в тайные сношения с его врагами, сторонниками Всеволода Чермного — Черниговскими князьями. Доносчиками явились бояре, посланные Глебом и Олегом Владимировичами. Летописцы различно относятся к этому факту: летописи Новгородские и Никоновская называют Глеба и Олега клеветниками, но Лаврентьевская, Симеоновская и Львовская признают, по-видимому, за обвинением известные основания. Некоторые обстоятельства (напр., родственные связи Рязанских князей с Черниговскими), действительно, могли возбудить подозрение в великом князе Всеволоде, и он поверил сообщению Глеба и Олега. Когда отряды Рязанских князей соединились с войсками Всеволода, он пригласил князей к себе, принял их радушно, но за обедом в одном шатре с собою посадил только Глеба и Олега. Неизвестно, какие доказательства были приведены затем Владимировичами в изобличение измены дядей и двоюродных братьев, но только шесть Рязанских князей (Роман и Святослав Глебовичи, двое сыновей последнего — Мстислав и Ростислав — и Ингварь и Юрий Игоревичи) с их боярами были схвачены и отправлены во Владимир. Глеб же и Олег Владимировичи принимали затем участие в осеннем походе Всеволода против Рязанского княжества; Глеб Владимирович находился в войсках Всеволода при осаде Пронска. Когда же великий князь Всеволод отдал Пронск не Владимировичам – Глебу и Олегу, а Муромскому князю Давиду, братья в следующем 1208 г. явились вместе с половцами под стенами города и заставили Давида покинуть Пронск. После же того, как великий князь Всеволод в том же году отправил на Рязань сына своего Ярослава, а по Рязанским городам посажал своих наместников, Рязанцы вступили в сношения с Глебом и Изяславом Владимировичами (Олег умер в 1208 году), предлагая им выдать Ярослава Всеволодовича. Неизвестно, как отнесся к этому предложению Глеб Владимирович; во всяком случае, летописи молчат об его участии в борьбе с Всеволодом Рязанских князей Кир-Михаила Всеволодовича и брата Глеба, Изяслава, напавших зимой 1209 г. на Владимирское княжество и опустошивших окрестности Москвы. Впрочем, летописцы мало говорят о жизни Рязанского княжества между 1209 г. и событиями 1217 г. В этом году Глеб был великим князем Рязанским. Не довольствуясь, по-видимому, своим положением, Глеб задумал освободиться от своих родичей, чтобы присоединить их волости себе. Пособником Глеба явился его брат Константин. Глеб пригласил князей-сородичей приехать к нему в Исады (на берегу Оки, в нескольких верстах от Старой Рязани) для улажения споров о волостях. Среди приехавших находились родной брат Глеба — Изяслав и пять двоюродных — Кир-Михаил Всеволодович, Мстислав и Ростислав Святославичи, Роман и Глеб Игоревичи. 20-го июля, когда князья весело пировали в шатре Глеба, Владимировичи (Глеб и Константин), при помощи скрытых за шатром вооруженных слуг и половцев, набросились на братьев, и все шесть внуков Глеба Ростиславича были убиты; вместе с князьями погибло немало бояр и слуг. Заговор Глеба удался не вполне, так как среди оставшихся в живых был Ингварь Игоревич, только случайно не попавший на «поряд» к Глебу. С помощью великого князя Юрия Всеволодовича, Ингварь Игоревич выступил против Глеба и одолел его. Глеб принужден был бежать к половцам, не раз, впрочем, делая затем набеги на Рязань, пока в 1219 году не был окончательно разбит Ингварем, после чего едва спасся бегством к половцам. По некоторым летописям (Воскрес.), Глеба постигла обычная с точки зрения летописцев судьба братоубийц: Глеб «обезуме и тамо (среди половцев) скончася», — неизвестно, впрочем, в каком году.
Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].
∞, КНЖ. …… ДАВИДОВНА СМОЛЕНСКАЯ, дочь Давида Ростиславича Смоленского. Потомства, по-видимому, не оставил.
Летоп. по Лаврент. сп., стр. 409, 410, 418, 419, 422, 465, 476; Летоп. по Ипатск. сп., стр. 464—465; Новгор. летоп. по Синод. харат. сп., стр. 190, 207; Полн. Собр. Русск. Летоп, IV (ч. 1‑я), 181, 197, (ч. 2‑я), 180, 193; V, 172*; VII, 105, 114—116, 124—126, 219, 235, 242, 243; X, 23, 27, 55, 56, 59, 77, 78, 81, 82; XV, 305—307, 325, 329; ХVIII, 36, 44, 49, 51; XX, 141, 145—147, 149, 150; XXI, 224, 258; XXIII, 57, 61, 62, 66, 67; «Летописец, содерж. Российск. ист. с 1206 до 1534 г.», M. 1784, стр. 6, 7; «Летописец Переяславля Суздальского», М. 1851, стр. 102, 108, 109; Тихомиров, 12—13; Иловайский, 75, 76, 78—80, 83, 84, 88—90; Карамзин, III, 59, 74, 102, 106, 120, пр. 80, 95, 123, 125, 130, 178; Соловьев, І, 566, 568, 595; А. Селиванов, «К вопросу об основании гор. Переяславля Рязанского» — Тр. Рязанск. учен. арх. ком., VI (1892), стр. 25, пр. 3.
30/. КН. ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († до 1217)
Помердо 1217 р. Удільний пронський князь (1207 — до 1217 рр.).
Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].
31/. КН. КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ († після 1217)
Співучасник по злочину Гліба Володимировича в Ісадах. Загинув «у половцях» після 1217 р. Існує невелика доля вірогідності, що загадковий князь Костянтин, який помер у Муромі в 1223 р. був Костянтином Володимировичем, котрого докори сумління зробили християнським подвижником.
32/. КН. ІЗЯСЛАВ-СІМЕОН ВОЛОДИМИРОВИЧ († 1217)
Загинув в Ісадах у 1217 р.
33/. КН. КИР-МИХАЙЛО ВСЕВОЛОДОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 1217)
сын Всеволода Пронского, внук Глеба, правнук Ростислава Ярославича-Панкратьевича. Кн. пронский (1207–1217 рр.). Убит в 1217 г.
Точная дата рождения и обстоятельства имянаречения этого князя неизвестны. Сын Всеволода Пронского фигурирует в летописях исключительно под христианским именем. При этом, как правило, к традиционному имени добавляется и именование Кир или Кюр (Чюръ). Строго говоря, мы не можем со всей определенностью ответить на вопрос, является ли этот элемент именем или своеобразной частью титулатуры. Иными словами, мы не знаем, что перед нами — имя собственное, слово с определенной семантикой или некая комбинация того и другого. Как известно, вместе часто фигурируют имена двух чудотворцев и бессребреников свв. Кира и Иоанна (память их мученической кончины отмечается 31 января, а перенесение мощей 28 июня). Возможно, именно этой парности святых (а также и тому обстоятельству, что 31 января празднуется также память мученицы Афанасии и трех ее дочерей) мы обязаны появлением в Житии Евфросинии Полоцкой женского имени Кираанна.84 Если предположить, что именование Кир Михаил образовано по такой или близкой модели, то здесь мы имеем дело с именем, составленным из двух имен святых, а, возможно, и попросту с двумя христианскими именами — Кир и Михаил. Нельзя, однако, забывать о том, что никакой очевидной связи между именами Кир и Михаил (в отличие от имен Кир и Иоанн) не просматривается, а потому использование двух имен вместе нуждалось бы в специальном объяснении.
С другой стороны, иногда с элементом «кир» («кюр») именуется, например, старший современник Кир Михаила — Рюрик-Василий Ростиславич (см. ниже), причем элемент «кюр», как и в случае с именованием пронского князя, непосредственно предшествует христианскому имени.85 Существенно, однако, что в данном случае употребление этого элемента отнюдь не регулярно и, скорее, может быть соотнесено не с именем святого, а с этикетным обращением («господин») к правителю. Что же касается именования пронского князя, то здесь элемент «кир» («кюр») является, по-видимому, столь необходимым, что он включается и в патроним его сына («кюръ Михаиловичь»)86, и в именование его жены («кнѧгиню Күръ Михаиловү»).87 Таким образом, мы можем предположить, что именование Кир Михаил в целом совмещает в себе функции родового и христианского, однако не беремся определить точную роль отдельных его составляющих. О святом патроне (святых патронах?) этого князя мы не знаем ничего определенного.
А.Г. Кузьмин, проведя анализ летописных сообщений, относящихся к политической истории Рязанского княжества XIII в., пришел к обоснованному выводу о легендарности сведений «Повести о разорении Рязани Батыем», относящихся к эпизоду возвращения князей Ингваря Ингваревича (умер в 1235 г.)88 и Михаила Всеволодовича (погиб в 1217 г.) в Рязань и Пронск сразу после разорения княжества.89.
Джерело: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М.: «Индрик», 2006. С. 576–577.
∞, КНЖ. ВЕРА-ОЛЕНА ВСЕВОЛОДОВНА КИЕВСКАЯ, дочка київського князя Всеволода Святославича Чермного.
34/. КН. МСТИСЛАВ СВЯТОСЛАВИЧ († 1217)
Помер у 1217 р. На снемі в Ісадах не був.
Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].
35/. КН. РОСТИСЛАВ-ІВАН СВЯТОСЛАВИЧ († 1217)
Загинув на снемі в Ісадах у 1217 р.
Поздние летописи приводят при описании конфликта под 1208 г. имена ряда братьев из поколения внуков Глеба Ростиславича Рязанского. Если судить по показаниям Никоновской летописи, двое из них являются сыновьями Святослава Глебовича, однако ни один не является тезкой своего отца: «Святославичи», «сынове Святославли» носят имена Мстислав и Ростислав [ПСРЛ. Т. Х. С. 55]. В Воскресенской же летописи, где тоже есть «расширенный» список имен Глебовых внуков, дело обстоит несколько сложнее. Там, с одной стороны, присутствует та же безымянная конструкция, что и в Лаврентьевской летописи, а, с другой стороны, отдельно названы имена двух Святославичей, однако ни один из них не носит имени своего отца: «…прiидоша къ нему ту Рязаньскiи князи, Романъ Глѣбовичь и братъ его Святославъ съ 2‑ма сынома, и Игоревича два Ингварь и Юрьи, и Володимерича два Глѣбъ и Олегъ, а Святославичи Мстиславъ и Ростиславъ, а Всеволодъ Глѣбовичь уже преставися во Проньскѣ» [ПСРЛ. Т. VII. С. 114] (см. табл. № 10 к настоящему экскурсу). Ср. также уже цитировавшееся указание в статье, помещенной перед Воскресенской летописью под 1177 г. [ПСРЛ. Т. VII. С. 242].
35/. КН. ГЛЕБ ЯРОСЛАВИЧ († 1217)
Загинув на снемі в Ісадах у 1217 р.
Глеб оказывается тезкой своего убийцы Глеба Владимировича по весьма понятной причине — оба они названы в честь их общего деда, Глеба Ростиславича. Совпадение имен кузенов было явлением вполне заурядным в родовой практике Рюриковичей и, как кажется, даже более обыкновенного распространенным у черниговорязанских князей. Отчество Глеба нигде не названо. Он мог быть сыном любого из Глебовичей, за исключением разве что Владимира, у которого один сын Глеб уже был. Н. Баумгартен считает Глеба сыном Игоря Глебовича и, соответственно, родным братом Романа и Ингваря Игоревичей [Baumgarten 1934. P. 74. Tab. XIV]. Из многих генеалогических построений историков Глеб, вероятно, в силу своей незначительности, попросту выпал [Карамзин. Т. III. Примеч. 123; Соловьев 1988. С. 716]; ср., однако: [Соловьев 1988. С. 710. Примеч. 416], где имя Глеба присутствует в списке князей, погибших на пиру. В каком-то смысле Глеб может служить примером того, как все сведения, дошедшие до нас о некоем представителе рода Рюриковичей, ограничиваются именем, хорошо вписывающимся при этом в структуру определенных родственных и династических отношений. Пытаясь точнее определить родовую принадлежность этого князя, можно говорить о несколько большей предпочтительности версии отцовства Романа или Игоря Глебовичей, поскольку в этих случаях прослеживается определенное внутрисемейное обыгрывание имен святых братьев Бориса-Романа и Глеба-Давида (см. табл. № 5 к настоящему экскурсу). В самом деле, мирские и крестильные имена святых братьев образовывали различного рода устойчивые пары: князь, носивший имя одного из них, мог охотно давать своему сыну имя другого. Иными словами, Роман охотнее других мог бы назвать своего сына Глебом. С другой стороны, Игорь, по сходным соображениям, мог распределять имена святых родичей между несколькими своими детьми, назвав одного из них Романом, а другого — Глебом. Однако наречение в честь умершего деда — настолько весомый аргумент при выборе имени для ребенка, что подобные дополнительные тонкости могли учитываться, а могли и попросту игнорироваться.
Джерело: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М.: «Индрик», 2006. С. 280. Прим. 44.
XII генерація від Рюрика
41/. РОМАН ІНГВАРЕВИЧ КОЛОМЕНСЬКИЙ († I.1238)
Помер бл.28–30.12.1237 р. невдовзі після поразки під Коломною. Князь коломенський (1217–1237 рр.). Учасник снему рязанських князів при обговоренні ультиматуму Батия. А.Кузьмін вважав, що коломенський князь був васалом володимиро-суздальського князя. Але в такому випадку важко пояснити його присутність на снемі в Рязані, де рязанські князі прийняли рішення боронити свою землю перед монголами.
Во время боевых действий зимы 1237/38 гг. возглавлял вместе с братьями (Юрием и Олегом Ингваревичами) сопротивление завоевателям 90. Погибает в битве под Коломной (январь 1238 г.).91
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного старинного синодика 92.
43/. В. КН. ОЛЕГ ІНГВАРЕВИЧ КРАСНИЙ РЯЗАНСЬКИЙ († 1258)
В «Повести о разорении Рязани Бытыем» содержится рассказ о якобы произошедшем в результате неудачного для рязанцев полевого сражения с войсками Батыя пленении и последовавшей за этим мученической гибели Олега Ингваревича зимой 1237/38 гг.: «И поидоша против нечестиваго царя Батыя, и стретоша его близ придел резанских…Ту убиен бысть благоверный князь велики Георгий Ингоревич, брат его князь Давид Ингоревич Муромский, брат его князь Глеб Ингоревич Коломенский, брат их Всеволод Проньской, и многая князи месныа и воеводы крепкыа, и воинство: удальцы и рез- вецы резанския….А князя Олга Ингоревича яша еле жива суща….Царь Батый видя Олга Ингоревича велми красна и храбра и изнемогающи от великых ран, и хотя его изврачевать от великых ран и на свою прелесть возвратити. Князь Олег Ингоревич укори царя Батыа, и нарек его безбожна, и врага христианска. Окаяный Батый и дохну огнем от мерскаго сердца своего, и въскоре повеле Олга ножи на части роздробити. Сии бо есть вторый страстоположник Стефан приавенецъ своего страданиа от всемилостиваго бога и испи чашу смертную своею братею ровно».93
Идентичность описания казни Романа Рязанского, содержащегося в Московском летописном своде, с аналогичным эпизодом «Повести о разорении Рязани Батыем», относящимся к гибели Олега Красного в ставке Батыя94, свидетельствует о намеренном или ошибочном перенесении составителем «Повести…» событий, связанных с казнью в ставке хана Менгу-Тимура рязанского князя Романа Ольговича (1270 г.), являвшегося сыном Олега Ингваревича Красного, во времена монгольского нашествия. Сообщение «Повести…» XVI в. о казни князя Олега Ингваревича в монгольском плену является позднейшей исторической легендой, не имеющей подтверждения в аутентичных эпохе письменных источниках.
Первое упоминание о деятельности Олега Ингваревича как правителя Рязанской земли содержится в тексте Новгородской IV летописи, отмечающей факт вызова рязанского князя в ставку великих ханов в 1242 г.: «Иде Александр къ Батыю царю, а Олегъ Рязанский къ Канови иде».95 Новгородская летопись Авраамки отиетила под 1243 г. возвращение рязанского князя на родину: «прииде Олегъ отъ Кана».96 Таким образом, исходя из данного летописного сообщения, можно сделать вывод о том, что поездка Олега Ингваревича к «Кану» заняла около или чуть более года и, по всей вероятности, завершилась получением ярлыка на княжение от Туракины (вдовы великого хана Угедя), являвшейся правительницей Монгольской империи в период «междуцарствия» (1241–1246 гг.).97
К сожалению, в летописных источниках никак не отражена деятельность рязанского князя в период с 1243 по 1250 г., под которым Вологодская летопись фиксирует факт вызова Олега Ингваревича в ставку Бату с последовавшим затем арестом правителя Рязани: «князь Олег Рязанской пошел в Орду и всадиша его в садъ».98 Обстоятельства и причины заключения под стражу рязанского князя не отражены в письменных источниках и находятся в сфере предположений исследователей. Длительность пребывания рязанского князя в ставке Бату может объясняться нестабильной политической ситуацией в Монгольской империи, сложившейся после скоропостижной кончины великого хана Гуюка в 1248 г., и развернувшейся в 1248–1251 гг. борьбой за власть между различными группами монгольской знати. В этот период времени внимание Джучидов было сосредоточено на проведении курултая и поддержке своего кандидата (Менгу) на ханский престол.99 В 1252 г. Олег Ингваревич был освобожден из заключения и вернулся в Рязань: «пустиша Татарове Олга князя Рязанского в свою землю».100 Княжеские полномочия сохранялись за Олегом Ингваревичем вплоть до его кончины в 1258 г. После смерти Олега Красного рязанский стол занимает его сын Роман Ольгович, правивший княжеством 12 лет, вплоть до своей гибели в ставке хана Менгу-Тимура в 1270 г.101
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного старинного синодика со своей женой 102.
∞, МАРИЯ ….. ….. .103.
Джерело: Воротынцев Л.В. «Ордынский плен» рязанского князя Олега Ингваревича Красного (1238–1258 гг.): от историографического мифа к историческим реалиям // Золотоордынское обозрение. 2021. Т. 9, № 4. С. 733–748. DOI: 10.22378/2313–6197.2021–9‑4.733–748.
46/. КН. ОСТАФІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ († 1264)
Як ізгой загинув у Литві під час усобиці по смерті Міндовга.
47/. КН. ВСЕВОЛОД КИР-МИХАЙЛОВИЧ ПРОНСКИЙ († 1237)
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика как князь Пронский со своей женой 104.
Во время боевых действий зимы 1237/38 гг. пронскому князю Кир Михайловичу удается уйти с частью дружины на территорию Владимирского княжества: «….утече со своими людьми до Суждаля….».105 Его дальнейшая судьба неизвестна. За «Повістю про розорення Рязані» — пронський князь, який загинув у 1237 році. В джерелах Кир-Михайлом звуть його батька, який загинув у 1217 р. в Ісадах.
∞, ЕВДОКИЯ 106.
XIII генерація від Рюрика
50/. В. КН. РОМАН ОЛЬГОВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ († 1270)
Князь рязанський (1258–1270 рр.). После смерти Олега Красного рязанский стол занимает его сын Роман Ольгович, правивший княжеством 12 лет, вплоть до своей гибели в ставке хана Менгу-Тимура в 1270 г.107
Ханові Мунке-Темюру донесли, що князь Роман Ольгович погано говорив про іслам, недавно прийнятий монгольською верхівкою. Хан наказав зашити князеві Роману рота, розрізати на шматки по суглобах, а голову настромити на списа, здерши з неї шкіру. Князь Роман Ольгович канонізований церквою як мученик за віру.
Несмотря на обвинения, выдвинутые против Романа Ольговича, власти Улуса Джучи сохраняют права на престол за его сыновьями – Ярославом Романовичем и Федором Романовичем, с вероятным разделением княжества на два удела – Рязанский и Пронский. Косвенным свидетельством этому могут служить сообщения Лаврентьевской летописи о кончине братьев Романовичей, отмеченных разными владельческими титулами: «В лето 6802 (1294) преставися Федор князь Рязанскыи….В лето 6807 (1299) преставися князь Ярослав Проньскыи».108
51/. КН. ДМИТРИЙ ОЛЬГОВИЧ
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного старинного синодика со своей женой 109.
∞, МАРИЯ ….. …… 110.
КН. МИХАИЛ ..... ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ (?)
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного старинного синодика со своей женой и детьми Романом и Константином 111.
∞, ФЕОДОСИЯ ..... .112.
∞, Феодосія.
XIII генерація від Рюрика
54/. В. КН. ФЕДІР РОМАНОВИЧ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ († 1294)
Помер у 1294 р. Князь рязанський (1270–1294 рр.). Несмотря на обвинения, выдвинутые против Романа Ольговича, власти Улуса Джучи сохраняют права на престол за его сыновьями – Ярославом Романовичем и Федором Романовичем, с вероятным разделением княжества на два удела – Рязанский и Пронский. Косвенным свидетельством этому могут служить сообщения Лаврентьевской летописи о кончине братьев Романовичей, отмеченных разными владельческими титулами: «В лето 6802 (1294) преставися Федор князь Рязанскыи….В лето 6807 (1299) преставися князь Ярослав Проньскыи».113
55/. В. КН. ЯРОСЛАВ-АКУЛА РОМАНОВИЧ ПРОНСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ († 1299)
Помер у 1299 р. Князь пронський (1270–1294 рр.) і рязанський (1294–1299 рр.).
В 1284 г. Ярослав вместе с братом Федором и матерью вел. кнг. Анастасией упоминаются в приписке к рязанской Кормчей.114 Под 1299 г. имеется летописная запись: «Того же лета преставися князь Ярослав Пронский», при этом он назван без отчества и только В.Н. Татищев и поздняя Никоновская летопись указывают его отчество — Романович.115
В несудимой грамоте кн. Александра Михайловича Пронского епископу Григорию на с. Остромерское читаем: «..Яз, князь Александр Михайлович, дал есми село Остромерское, святым мученикам Борису и Глебу, и отцу своему владыке Григорею, куплю деда своего, князя великого Ярослава Пронского, и бабы своей княгини Феодоры в память им и матери своей Авдотьи...».116 Синодик подтверждает существование у Ярослава Романовича супруги Феодоры, а грамота называет имя супруги Михаила Ярославича — Евдокия. По мнению А.В. Экземплярского занимал рязанский стол после смерти брата Федора Романовича.
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика в рубрике «В синодике записаны князья Пронские», где назван Акулой и указано имя его супруги — Феодора117.
∞, ФЕОДОРА …… … . 118
КН. ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПРОНСКИЙ, ИН. ГУРИЙ
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика в рубрике «В синодике записаны князья Пронские», где записано его иноческое имя Гурий.119
56/. В. КН. КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ († 1301)
Помер після 1301 р. у московському полоні. Князь пронський (1294–1299 рр.) і рязанський (1299–1301 рр.). В Кормчей упоминаются Федор и Ярослав Романовичи со своей матерью, но при этом отсутствует князь Константин, что косвенно свидетельствует о том, что кн. Константин не был Романовичем.
В Лаврентьевской летописи под 1299 г. говорится о смерти Ярослава Пронского, а под есть запись: «рязаньскыи князи Ярославичи у Переяславля». Видимо, шла борьба за Рязанский престол между Константином Рязанским и сыновьями Ярослава Пронского120.
В Лаврентьевской летописи под 1301 г. находим: «в осенине Данило князь Московьскым приходил на Рязань ратью, и билися оу Переяславля, и Данило одолел, много и татар избибто бысть, князя Рязаньского Констянтина некакою хитростью ял, и привед на Москву»121. Однако в летописях Симеоновской122 и Никоновской123 вместо «татар» – бояре, при этом дополнительных сведений там нет. Симеоновская летопись была одним базовых источников для НЛ, то есть, у нас один пример такого чтения. В Троицкой, Московской, Воскресенской, Львовской, Ермолинской, Типографской, Владимирской – «татары». Проблема в том, что совсем нет контекста относительно этих «татар», а «бояре» в смысловом контексте выглядят гармонично – то есть, исключать, что «татары» тут описка,нельзя. Отсутствие контекста и последствий говорит, что эти «татары», если они были, могли быть воинами какого-то небольшого ордынского владельца, вмешавшегося в конфликт по собственной инициативе.
Согласно Симеоновской летописи, в те годы, после смерти на великом княжестве Андрея Городецкого 27 июля 1305 г., началась борьба между Михаилом Тверским и Юрием Московским, которые поехали в Орду за ярлыком. Военные действия начались в 6814 (1306) г., когда князья еще были в Орде. «Тое же осени князь Михаило Ярославичь Тферскыи вышел из орды на княжение великое и того лета ходил ратью к Москве на Юрья и на его братью. В лето 6815 князь Юрьи веха на Москву с Рязани, а на осень бысть Таирова рать. Тое же осени князь Александр и Борис отъехали в Тферь с Москвы. Тое же зимы князь Юрьи князя Констянтина убил Рязанскаго». В 1308 г. Михаил Тверской «ходил в другие к Москве ратью, всею силою, и бысть бои у Москвы, на память святого апостола Тита, и града не взяша, и не успевше ничто же възратишася»124. Затем военные действия прекратились, а открытый конфликт возобновился с 1312 г., сосредоточившись вокруг Новгорода, пока в 1318 г. Михаил не был убит в Орде, а Юрий не был посажен на великое Владимирское княжество. Таким образом, зимой 1306/07 г. Юрий Московский укрывался в Рязани, а осенью 1307 г. была «Таирова рать». В НЛ не говорится о пребывании Юрия в Москве, а датировка остальных указанный событий частично смещена по годам; второй поход Михаила на Москву помещен сразу после сообщения о походе татар на Рязань, а перед этим – сообщение о море и гладе (в Симеоновской летописи датирован следующим, 1309 г.); Таирова рать помещена в конце записей 6813 г. (то есть, осенью 1305 г. по мартовскому летоисчислению или осенью 1304 г. по сентябрьскому летоисчислению). В таком контексте можно предполагать, что Таирова рать – это и был поход на Рязань (а также, возможно, московские владения), под давлением чего Юрий Московский и убил Константина Рязанского (а в Орде был убит его сын).
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного старинного синодика 125.
∞, АННА ..... .
48/. КН. РОМАН МИХАЙЛОВИЧ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ
∞, АНАСТАСІЯ .... .
XIV генерація від Рюрика
66/. КН. ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ
сын князя Константина Романовича. Единственное летописное известие, сохранившееся об этом князе, относится к 1308 г., когда Василий Константинович был убит в Орде. В НЛ под 1308 г.: «Того же лет убиен бысть во Орде князь Василеи Констянтинович Рязанский. Того же лета татарове Рязань воеваша»126. Неизвестно, что послужило причиной ханского гнева, которому подверглись и все рязанцы, так как в том же году татары воевали их область. В годы невольного пребывания его отца в Москве (1301—1306), Василий Константинович, как полагают, управлял Переяславским княжеством. Неизвестно, был ли женат Василий Константинович, но потомства он не оставил 127.
В НЛ под 1327 г., после повествования об убийстве в Твери Щелкана, уникальная запись: «того же лета во Орде убиен бысть князь Василей Рязанский повелением царя Азбяка»128. В этом году также был убит в Орде Иван Ярославич Рязанский (о чем в НЛ также сообщено). Очень вероятно, что указание на смерть некого Василия – это компиляция-дубляж данных о смерти Василия Константиновича и Ивана Ярославича.
КН. АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного старинного синодика.129.
62/. В. КН. МИХАЙЛО ЯРОСЛАВИЧ ПРОНСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ (1299, †1303/1320)
кн. Пронский, вел. кн. Рязанский, старший сын кн. Ярослава Романовича. Запись Лаврентьевской летописи под 6808 ультрамартовским (т. е. 1299) г. говорит: «Того же лѣта рязаньскыи князи Ярославичи у Переяславля»130. Во фразе пропущено сказуемое. Речь явно идет о борьбе разных ветвей рязанской династии за главный стол земли, разгоревшейся после смерти в том же 1299 г. князя Ярослава Романовича131. У него остался младший брат Константин и сыновья Михаил, Александр и Иван — те самые «Ярославичи».
В Лаврентьевской летописи под 1299 г. говорится о смерти Ярослава Пронского, а под есть запись: «рязаньскыи князи Ярославичи у Переяславля». Видимо, шла борьба за Рязанский престол между Константином Рязанским и сыновьями Ярослава Пронского132.
Упоминается единственный раз в жалованной грамоте рязанскому епископу Стефану, датированной около 1299–1303 г., причем назван в ней с титулом великого князя: «Князь великий Михайло Ярославичь рязанский дал.» 133. Под 1306 г. в Троицкой летописи записано: «Князь Юрьи въѣха на Московь съ Рязани» 134. В том же году в Москве был убит Константин: «Тое же зимы князь Юрьи князя Костянтина убилъ Рязанского» 135.
Согласно Никоновской летописи, в 1308 г. князя Василия Константиновича убили в Орде. В тот же год монголы Рязань воевали 136. Данные сведения отсутствуют в других летописях.
В 1320 г. «ходи князь Юрьи ратью на Рязань на князя Ивана рязаньского, и докончаша миръ» 137. Поскольку на рязанском княжении в это время находился Иван, смерть Михаила произошла не позднее 1320 г.
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика в рубрике «В синодике записаны князья Пронские». Вместе с отцом поминается его сын Михаил, который возможно умер в молодых годах. В источниках он не значится. 138.
∞, АВДОТЬЯ ….. ….. . 139 Имя его супруги нам становится известно из грамоты его младшего сына Александра Михайловича — Авдотья (Евдокия).
64/. В. КН. ІВАН ЯРОСЛАВИЧ ПРОНСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ († 1326)
Князь пронський (1299–1308 рр.) і великий князь рязанський (1308–1326 рр.). В Лаврентьевской летописи под
1299 г. говорится о смерти Ярослава Пронского, а под ней есть запись: «Того же лѣта рязаньскыи князи Ярославичи у Переяславля»140. Видимо, шла борьба за Рязанский престол между Константином Рязанским и
сыновьями Ярослава Пронского.
В 1320 г. «ходи князь Юрьи ратью на Рязань на князя Ивана рязаньского, и докончаша миръ» 141. Поскольку на рязанском княжении в это время находился Иван, смерть Михаила произошла не позднее 1320 г.
Загинув у 1327 р. в Орді. В 1327 г., согласно Новгородской I и Троицкой летописям произошло обострение рязаноордынских отношений, связанное с убийством князя Ивана Ярославича. 142 По данным Московского летописного свода, произошло это в Орде 143. Причины убийства неизвестны. Если исходить из ситуации в северо-восточной Руси в 20‑х гг. XIV в., то Иван мог пострадать за союзнические отношения с Александром Михайловичем Тверским, провинившемся в глазах хана Узбека в 1327 г.
В НЛ под 1327 г., после повествования об убийстве в Твери Щелкана, уникальная запись: «того же лета во Орде убиен
бысть князь Василей Рязанский повелением царя Азбяка»144. В этом году также был убит в Орде Иван Ярославич Рязанский (о чем в НЛ также сообщено). Очень вероятно, что указание на смерть некого Василия – это компиляция-дубляж данных о смерти Василия Константиновича и Ивана Ярославича.
Записан для поминания в синодик Рязанского Духовского монастыря 145. З Любецького синодика відомо, що його дружиною була Василина з династії Ольговичів.(?)
∞, ВАСИЛИНА ….. ….. .
56/. КН. БОРИС ЯРОСЛАВИЧ
рязанский синодик позволяет идентифицировать имена одной из поминальных записей Введенского помянника: «Кн(з) Борисовы Кнгини Акилины». Здесь поминается супруга одного из рязанских князей, Бориса Ярославича (вероятно, брата Ивана Ярославича Рязанского), не известного по другим источникам. Судя по месту записи в ВС, княгиня Акилина Борисова принадлежала к числу потомков Олега Курского.
Записан для поминания в синодик Рязанского Духовского монастыря вместе с женой 146.
∞, АКИЛИНА ….. ….. .
/. КНЖ. АНАСТАСИЯ ЯРОСЛАВНА
Древнейший вариант легенды о Солохмире повествовал о выезде из «Большой Орды» двух братьев. Имя первого не сохранилось, до Переяславля он не доехал, был убит татарами «на поле». Второй же, Иван Лохмир (Лотмир), получил в жены от «великого князя резанского Мирославича», в котором следует видеть искаженное имя рязанского и пронского князя Ивана Ярославича (1308–1327 годы), его сестру Настасью. Этот вариант убедительно объяснял расположение родовых вотчин Вердеревских под Пронском 147.
Древнейший вариант представлен в списках 2‑го извода Патриаршей редакции и в компиляции списка Троицкого 18 (далее — Вариант I‑а)148. Здесь родословие Солохмировых находится на изначальном, последнем месте. Приводим Вариант I‑а по Архивскому VII списку, с вариантами по иным спискам (указаны в сносках).
Род Салнахиров, от него Кончеевы, Вердеревские, Крюковы. Приехал[и] к великому князю резанскому [N.] Мирославичю149 – два брата татарины– 150 из151 Большие Орды, и одного брата убили татарове на поле, а за втор[аго]152 брата дал князь великий резанский сестру свою Настасью, за Ивана за Лохмира153.
[А у Ивана Лохмира154 сын Григорей]155.
А у Григорья Ивановича дети Григорей да Михайло Обумал156, да Кончей, да Костянтин.
И от Григорья пошли Вердеревские, а от Михаила от Обумала157) пошли158 Крюковы да Шишкины, а от Кончея Кончеевы, Дувановы159, Пороватыя160, Ротоевы, Базаровы.
Вариант I‑б, читаемый в списках редакции начала XVII века, 1‑го и 2‑го изводов Патриаршей редакции 161, сохраняет свою конечную позицию, но вместо Лохмира предком значится Салохмир.
Вариант I в обеих своих версиях воспроизводит, очевидно, дефектный протограф, особенности которого можно отчасти реконструировать. В позднейших вариантах отчество Мирославич присвоено Ивану-Солохмиру. Но Вариант I относит его не к выезжему татарину, а к рязанскому князю. Патроним Мирославич представлен в формах дательного или родительного падежа (вполне допустимого, если личное имя стояло в дательном 162). Имя Мирослав существовало 163, но в княжеский ономастикон не вошло 164. Видимо, в протографе были утрачены собственное имя князя и начало его отчества. Палеографически наиболее вероятна путаница с буквами М и Ѧ 165.
Рязанский престол в 1299–1372 годах занимали три Ярославича, все из пронских князей: Михаил, его брат Иван 166, Владимир Ярославич-Дмитриевич 167. В родословцах указывается еще и Дмитрий Ярославич 168. Итак, составитель протографа Варианта I располагал целым рядом великих князей-Ярославичей, к которым мог бы выехать Лохмир. В XVII веке возвысились и приписались к Солохмировым вяземцы Хитрово. По их росписи (1686 год) старшего брата «Саломира» звали Едуган. Едуган и Саломир приехали «к великому князю Ольгу Ярославичю» 169. Вероятно, в источнике, на котором основывалась родословная роспись Хитрово, уверенно читалось отчество Ярославич. Конъектура Ольгу явно неудачна (такого князя не было), но количество восстановленных букв может служить подсказкой о том, что изначально имелся в виду Иван Ярославич. Родовые вотчины потомков Лохмира (Вердеревских и Дувановых) локализуются близ Пронска, что косвенно подтверждает предположение об изначальном чтении.
Следующий вариант значительно переработал предыдущий, исключив «трудные чтения» и дополнив лестными для рода подробностями. Исчезло упоминание о погибшем «на поле» брате, не представлявшем интереса для родословия. Родоначальник здесь именуется Сохломир (Солохмир, Сохломер), а непонятный рязанский великий князь Мирославич был заменен Олегом (Ивановичем). Здесь перечислены и обширные вотчины, полученные якобы Сохломиром. Вариант II‑а содержится в списках редакции в 81 главу 170 и 2‑го извода редакции в 43 главы с приписными 171. В нем предок именуется и Солохмиром, и Сохломиром (редакция в 81 главу), его шурин, рязанский князь, назван Олегом, без отчества. Вариант II‑а, убрав упоминание второго брата, сохранил множественное число во фразе о выезде («приехали… Сохломир»). Легенда была дополнена списком пожалованных вотчин. В этих списках родословие Солохмировых переместилось с последнего на первое место среди рязанцев172.
Наконец, в последний раз родословная легенда была отредактирована при подаче родословной росписи в Разрядный приказ в 80‑е годы XVII века. В окончательном варианте предка стали звать Солохмиром Мирославичем, он оказался зятем князя Олега Ивановича. В таком виде легенда была утверждена в составе Общего гербовника и с тех пор рассматривается многими авторами как заслуживающий внимания при изучении событий конца XIV века образчик «родовой памяти»173.
Від цього шлюбу пішли відомі дворянські родини Крюкових, Вердеревських, Дуванових, Ратаєвих, Апраксіних та Ханикових.
Его сын Григорий именуется дядей в документах периода правления Ивана Фёдоровича174.
∞, 1‑я треть XIV в., Иван Лохмир, татарин, выехал из «Большой Орды»
XV генерація від Рюрика
71/. В. КН. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ († 1344/1351)
сын Александра Константиновича, великий князь рязанский.
После Ивана Коротопола рязанским князем становится сын Александра Константиновича Иван. О его деятельности нет летописных известий. Известен Иван по четырем докончаниям XV столетия 175.
Иван Коротопол и Иван Александрович названы «дедами» рязанского князя Федора Ольговича и соответственно «прадедами» его сына Ивана в московско-рязанских договорных грамотах 1402 и 1434 гг. Аналогично для московского князя Юрия Дмитриевича в грамоте 1434 г. его «дедами» названы Симеон Иванович Гордый и Иван Иванович, хотя «родным» является только второй. То есть логично предположить, что Иван Иванович и Иван Александрович — это лица одного поколения и братья, хоть и не родные.
68/. КН. МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ПРОНСКИЙ
княжич пронский. Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика вместе с отцом Михайлом Ярославичем 176.
69/. КН. АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ПРОНСКИЙ († 1339)
Князь пронський (? ‑1339 рр.). известный по актовому материалу и сведениям летописи 177. Загинув у темниці в Переяславі-Рязанському, вбитий за наказом рязанського князя Івана Коротопула. Напевне його дружина була з Ольговичів, бо його ім’я внесено у Любецький пом’яник.
Упоминается в рукописной редакции «Рязанских достопамятностей» в выписях из неизвестного синодика как князь Пронский со своей женой 178. В этом источнике записан как «убиенный от иноплеменников».
Записан во Введенском помянника с перестановкой местами имени и отчества: «Кн(язя) Михайла Александровича Прон(с)кого оубиенного о(т) своего брата | кн(язя) Ивана Ивановича о(т)павлыя (sic) и кн(я)ги(ню) [его] Феодосию и с(ы)нов е(го) кн(язя) Ярослава [и] кн(язя) Василия»179.
∞, ФЕОДОСИЯ ….. ….. . 180
70/. В. КН. ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПРОНСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ
Лицо реконструированное. В 1342 году «...выиде из Орды на Рязанское княжение князь Ярослав Проньский, отпущен царем, а с ним посол Киндяк, и приидоша к Переяславлю», где засел Коротопол. Осада закончилась бегством этого князя и разгромом Переяславля татарами Киндяка. А дальше, согласно загадочной фразе летописи: «а князь Ярослав седе в Ростиславле» 181. То есть Ярослав действовал в интересах другого князя, который в это время владел Пронском. Этим князем мог быть только младший брат Александра Михайловича, Дмитрий, отец хорошо известного в 1360‑х и начале 1370‑х пронского князя Владимира Дмитриевича. «Великий князь Дмитрий» записан в «рязанских синодиках», его отождествление с Ярославом мне кажется недостаточно обоснованным. Ярослав привез ярлык своему дяде, который был Великим князем, видимо, совсем недолго, так как под 1344 года в летописи сообщается о смерти Ярослава Александровича Пронского.
73/. В. КН. ІВАН ІВАНОВИЧ КОРОТОПОЛ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ († до 1343)
Князь рязанський (1326–1342 рр.). Загинув не пізніше 1343 р.
В ранних летописях отсутствуют сведения о преемнике князя Ивана Ярославича, однако в дополнительных статьях Воскресенской летописи есть упоминание о княжении в Рязани с 1327 г. Ивана Ивановича Коротопола 182. В Рогожском летописце Иван Коротопол фигурирует с 1339 г.: ордынский посол Товлубий с ратью пошел на Смоленск, «а съ нимъ князь Иванъ Коротополъ Рязаньскыи. И приидоша въ Переяславль Рязаньскыи, а князь Александръ Михайлович[ь] Пронъскыи пошелъ былъ въ Орду съ выходомъ къ царю, и стрПтивъ его Коротополъ има его да пограбилъ, а самого привелъ въ Переяславль в Рязаньскыи. И ту убиенъ бысть князь Александръ Михайлович[ь] Проньскыи отъ своего брата» 183.
В 1342 г. «Вышелъ на Русь отпущенъ царемъ изь Орды на Рязаньское княженье князь Ярослав Пронский, а съ нимъ посолъ Киндякъ; и пршдоша к Переяславлю, и князь Иванъ Коротополъ бился весь день съ города, а на ночь побѣжалъ вонъ; и Киндякъ войдя въ городъ, многихъ христианъ полонилъ, а иныхъ избилъ, а князь Ярославъ сѣлъ въ Ростиславлѣ» 184. Через год в 1343 г. «убьенъ бысть князь Иванъ Коротополъ». 185
Иван Коротопол и Иван Александрович названы «дедами» рязанского князя Федора Ольговича и соответственно «прадедами» его сына Ивана в московско-рязанских договорных грамотах 1402 и 1434 гг. Аналогично для московского князя Юрия Дмитриевича в грамоте 1434 г. его «дедами» названы Симеон Иванович Гордый и Иван Иванович, хотя «родным» является только второй. То есть логично предположить, что Иван Иванович и Иван Александрович — это лица одного поколения и братья, хоть и не родные.
74/. КН. ФЕДОР БОРИСОВИЧ ЕЛЕЦКИЙ
Сын Бориса Ярославича, записан для поминания в синодик Рязанского Духовского монастыря 186. По версии Алексея Бабенко РОДОНАЧАЛЬНИК КНЯЗЕЙ ЕЛЕЦКИХ.
XVI генерація від Рюрика
77/. В.КН. ОЛЕГ-ИАКОВ (ИН. ИОАКИМ) ИВАНОВИЧ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ († 5.07.1402)
— великий князь Рязанский с 1350 года. Наследовал княжение по смерти Василия Александровича. По одной из версий, сын князя Ивана Александровича, по другой версии — сын князя Ивана Коротопола.
Помер 5.07.1402 р. (114, с.102; 115,с.105–106,144; 117, с.123). Великий князь рязанський (1349–1402 рр.). На думку А.Екземплярського був сином Івана Олександровича, якого у літописі помилково назвали Василем (660, с.582). Ця помилка виправлена вже в таблицях О.Зиміна (711, с.114). Олег був сином Івана Івановича Коротопола. Дружину його звали Євфросінія. Походження її незнане. Вона померла 5.12.1405 р. (123, с.316). Олег Іванович, чия діяльність відбита у літописах з 1353 р., був одним з найвизначніших рязанських князів, який намагався зберегти Рязанську землю в умовах постійного тиску зі сторони Орди та Москви, вести власну політику, поширюючи свій вплив на частину верховських князівств та використовуючи суперечності між Литвою, Москвою та Тверю.
В эпоху «великой замятни» в Золотой Орде, до концентрации власти в руках Мамая, Олег в союзе с Владимиром Пронским и Титом Козельским разбил у Шишевского леса ордынского князя Тагая в 1365 году.
К периоду с 1370 по 1387 год относятся настойчивые попытки Олега отстоять независимость своего пограничного со степью княжества, наиболее уязвимого к ордынским набегам, в то время, когда национальные интересы требовали объединения русских сил в борьбе против Орды. Олег в 1370 году стал одним из организаторов сбора войск в помощь осаждённой Ольгердом Москве[5], но в 1371 году был разбит войсками Дмитрия Московского под командованием князя Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского в сражении при Скорнищево, рязанское княжение занял Владимир Пронский (к 1373 году, к вторжению Мамая, Олег смог вернуть себе княжение; московское войско выходило на северный берег Оки). В 1377 году Рязань была разорена ордынским царевичем Арапшой, Олег едва избежал пленения. В 1378 году Дмитрий вывел войска за Оку и в союзе с Данилой Пронским разбил ордынское войско в битве на Воже. В 1379 году Рязань была вновь разорена самим Мамаем.

В 1380 году Олег вступил в переговоры с Мамаем и Ягайло против Дмитрия, что традиционно трактуется как его измена общерусскому делу, но частью историков — как дипломатическая игра с целью уберечь свои земли от повторных разорений, склонить Дмитрия встретить Мамая ещё до его прихода на Рязанскую землю и даже как намеренное введение в заблуждение Мамая и Ягайла относительно возможного соединения с ними на Оке[5]. Дмитрий вывел свои войска за Оку, тем не менее не нанеся удара по Рязани, а пройдя западнее основных земель Рязанского княжества. В «Задонщине» упоминается даже о гибели 70 рязанских бояр с русской стороны[6]. Однако, некоторые рязанцы в отсутствие своего князя, выдвинувшегося со своим войском на юг, также грабили обозы, возвращающиеся в Москву с Куликова поля через Рязанскую землю[7]. В 1381 году Олег Рязанский признал себя «младшим братом» и заключил с Дмитрием антиордынский договор, аналогичный московско-тверскому договору 1375 года, и обещал вернуть захваченных после Куликовской битвы пленных[8]. В 1382 году Тохтамыш внезапно напал на Русь, Дмитрий не успел собрать силы, и Олег в целях сохранения своих земель от разорения ордынцами показал им броды на Оке, но они тем не менее пограбили Рязань на обратном пути. Кроме того, осенью того же года на Рязань провёл карательный поход и Дмитрий. В 1385 году Олег, воспользовавшись ослаблением Москвы после нашествия Тохтамыша, захватил Коломну. Благодаря вмешательству Сергия Радонежского была предотвращена очередная междоусобная война. Олег заключил вечный мир с Дмитрием Донским и в 1387 году женил своего сына Федора на дочери Дмитрия Софье.
В последующие годы Олег поддерживал своего зятя, смоленского князя Юрия Святославича, против Витовта литовского, стремящегося захватить Смоленск. Столкновения происходили на литовской и рязанской территории (1393—1401).
Один из эпизодов, в котором автор «Хожения» повествует о пребывании посольства Пимена в пределах Рязанской земли, опосредованно касается отно-шений Рязани и Москвы. Их сложность не помешала продвижению путников, а в какой-то степени даже поспособствовала продолжению. Митрополит Пимен прибыл в Переяславль-Рязанский по Оке водным путем, его встретили у города «сынове великого князя Олега Ивановича Рязанского», вскоре, «мало от своего места прешедшим, и срете нас с великою любовию сам князь велики Олег Иванович, и з детьми своими, и з бояры» 187. Князь и его окружение вместе со странниками посетили церковь, после чего был дан пир в честь митрополита у Олега Ивановича, о чем сообщают с разной степенью подробности обе редакции: «...и срете ны с любовию князь великий Олег Иванович, и прият с радостию и угости добре...» 188; «И пришедшим нам ко граду Переславлю, и сретоша нас со кресты, пришед же митрополит в соборную церковь и молеб-наа совръшив, и пирова у великого князя, и честь многу приат...» 189. Олег достойно принял Пимена, невзирая на конфликт митрополита с московским кня-зем Дмитрием Ивановичем,с которым сам не так давно был в сложных взаимоотношениях. Выразительный фрагмент «Хожения» показывает Олега Ивановича гостеприимным и радушным хозяином своего княжества. Окруженный детьми и многочисленною дружиной он радушно угощает странников, заботится об их удобствах и безопасности на всем пути по своим владениям: «Таже исходящим нам оттуда, проводи нас сам князь великый Олег Иванович Рязаньский з детми своими и з бояры, съ многою честию и съ любовию. Таже, целовавшеся, разлучихомся; онъ возвратися ко граду, мы же по-идохом напредь; и отпусти съ нами боярина своего Станислава з доволною дру-жиною, повеле нас проводити до реки до Дону съ великим опасением, разбоя деля» [С. 109]. А.Г. Кузьмин объяснял подобную интерпретацию образа следующим фактом: правителем Смоленска, откуда был родом автор «Хожения» Игнатий, в те годы был зять Олега Ивановича Юрий, и «независимость Смоленска от Литвы поддерживалась главным образом благодаря военной силе рязанского князя» 6. При этом фигура Дмитрия Ивановича отходила на второй план, несмотряна властную позицию московского правителя, во всем проводившего целенаправленную и жесткую политику укрепления Московского княжества, предусматривающую подчинение ему прочих русских княжеств.Данный отрывок примечателен еще и тем, что Игнатий упоминает о «соборной церкви» – Успенском соборе, что может служить дополнительным под-тверждением предположений исследователей, согласно которым древнейший в Переяславле-Рязанском собор был выстроен до 1389 года при Олеге Ивановиче в связи с переносом столицы княжества 190. Впоследствии гробницы рязанских князей и княгинь ХV–ХVI веков находились в Успен-ском (ныне Христорождественском) соборе вплоть до ХVIII века 191. Фрагмент о встрече Пимена в «Хожении» также содержит упоминания людей, входивших в близкое окружение князя Олега Ивановича, в частности епископа Рязанского. Причем имя последнего в разных редакциях отличается. В одном случае это епископ Феогност: «...и угости добре съ своим епископом Феогностом» 192. В другом, более пространном варианте, – Иеремия («Еремей Грек»): «...ту срете нас Еремей епископ Рязаньский Гречин» 193. По историческим данным, в Рязанском княжестве в этот период епископом был Феогност, посвященный в 1387 году 194. Путаница связана с более поздними пере-работками текста (Иеремия впервые упоминается в летописях под 1390 годом, поставлен он был на Рязанскую епархию после Феогноста, когда прибыл из Константинополя в Москву). Та же причина может объяснить различия по редакциям в перечнях духовных лиц, проводивших посольство далее по маршруту: «Проводиша ж нас и епископи, Данил Смоленский и Сава Сарский» 195, «Проводиша же нас тогда епископи мнози: Феодор Ростовский, Ефросин Суждальский, Еремей Гречин, епископ Рязаньский, Исакий епископ Черниговский, Данило епископ Звенигородцкий, и архимандрити, и игумени, и иноци» 196. Последний фрагмент, несомненно, входит в летописный вариант хожения, на что указывает более пространный характер отрывка, к тому же дополненный и последующими объяснениями автора –сопровождение посольства продолжалось до Чур-Михайлова: «...и ту утешение вземше и о господе целование сотворше и съ радостию и соумилением проводиша нас епископи, и ар-химандрити, и игумени, и священници, и иноци, и бояре великого князя Олга Ивановича Рязаньскаго, целовавшеся вси целованием святым, и от того места возвратишася въсвояси»
197. Многочисленные попутчики, в число кото-рых по настоянию Олега Ивановича вошел и княжеский боярин Станислав «з доволною дружиною», оказались в дальнейшем пути не лишними. И хотя сам Переяславль был укреплен основательно, что по достоинству оценили и во времена междоусобиц и нападений извне, путь от Оки до Дона, которым шли странники, был опасен из-за монголо-татар, которые также встречались в этих землях, и разбойников – беглых людей, промышлявших грабежом. Этот факт и вызвал княжескую заботу о посольстве Пимена – князь Олег дал распоряже-ние дружине проводить путников до конца своих владений: «повеле нас проводити до реки до Дону съ великим опасением, разбоя для» 198.
Перед самым концом жизни Олег принял иночество и схиму под именем Иоаким в основанном им в 18 верстах от Рязани Солотчинском монастыре. Инокинею окончила свою жизнь и его супруга — княгиня Евфросинья. Их общая гробница находится в соборе обители.
Примечателен факт, в докончальной грамоте 1375 года между Дмитрием Ивановичем Донским и Михаилом Александровичем Тверским — основными конкурентами за господство и великое княжение Владимирское, в качестве третейского судьи по спорным делам указан князь Олег Рязанский. Это свидетельствует о том, что Олег являлся на тот момент единственно авторитетной фигурой, великим князем, не стоявшим ни на стороне Твери, ни на стороне Москвы. Более подходящую кандидатуру на роль третейского судьи найти было практически невозможно.
∞ 1‑я, …... ......, возможно татарская (ордынская) княжна;
∞, 2‑я, ЕФРОСИНЬЯ (ЕВПРАКСИЯ) ...... (* ок. 1352, † 5.12.1405), по некоторым сведениям дочь литовского князя Ольгерда и Ульяны Тверской. Брак мог быть заключен, вероятно, ближе к середине или концу 1360‑х годов, когда Олег искал сторонников в борьбе с московским князем Дмитрием Донским; к 1370 году он уже был союзником Ольгерда. Перед смертью Евфросиния приняла схиму с именем Евпраксии (или наоборот, её девичье имя Евпраксия, а в схиме — Евфросиния).
Дети: По некоторым сведениям, от первого брака у Олега Ивановича было два сына – Федор и Родослав и две дочери, от второго брака – две дочери[11].От первого брака были:дочь[12] — замужем за Владимиром Пронским;
Анастасия — замужем сперва за князем Дмитрием Васильевичем Друцким (ум. 1384), затем за Дмитрием Корибутом Ольгердовичем, князем новгород-северским и збаражским;Агриппина — с 1377 года замужем за Иваном Титовичем Козельским;дочь[13] — замужем за удельным князем муромским Владимиром Даниловичем Красный Снадбя (ум. после 1395)[14];От второго брака, вероятно, были:Елена — замужем за Юрием Святославичем Смоленским;Фёдор[15] (ум.1427) — великий князь рязанский (1402—1427); Родослав (Ярослав?) (ум.1407).
75/. В. КН. ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОСТИСЛАВЛЬСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ († 1344)
Помер у 1344 р. Князь пронський (1340–1342 рр.) і рязанський (1342–1344 рр.). Виклопотав ярлик в Орді та прогнав з Рязані Івана Івановича Коротопола. А. Екземплярський об’єднав його з сином Дмитром як Ярослава-Дмитра. Та ж версія була прийнята і О.Зиміним (711, с. 114). Нам здається, що це помилка. У 1351 р. у розореному Муромі утвердився князь Юрій Ярославич, явно не муромської династії. З інших князів це міг бути тільки син Ярослава Олександровича (враховуючи близкість муромських і рязанських князів, а також збіг імен). Якби не існувало Дмитра Ярославича, Юрій Ярославич успадкував би Пронське князівство і розорений Муром не був для нього привабливим.
В 1342 году «...выиде из Орды на Рязанское княжение князь Ярослав Проньский, отпущен царем, а с ним посол Киндяк, и приидоша к Переяславлю», где засел Коротопол. Осада закончилась бегством этого князя и разгромом Переяславля татарами Киндяка. А дальше, согласно загадочной фразе летописи: «а князь Ярослав седе в Ростиславле» 199. То есть Ярослав действовал в интересах другого князя, который в это время владел Пронском. Этим князем мог быть только младший брат Александра Михайловича, Дмитрий, отец хорошо известного в 1360‑х и начале 1370‑х пронского князя Владимира Дмитриевича. «Великий князь Дмитрий» записан в «рязанских синодиках», его отождествление с Ярославом мне кажется недостаточно обоснованным. Ярослав привез ярлык своему дяде, который был Великим князем, видимо, совсем недолго, так как под 1344 года в летописи сообщается о смерти Ярослава Александровича Пронского.
Записан для поминания в синодик Рязанского Духовского монастыря 200. Записан во Введенском помянника вместе с отцом, у которого перестановили местами имя и отчество: «Кн(язя) Михайла Александровича Прон(с)кого оубиенного о(т) своего брата | кн(язя) Ивана Ивановича о(т)павлыя (sic) и кн(я)ги(ню) [его] Феодосию и с(ы)нов е(го) кн(язя) Ярослава [и] кн(язя) Василия»201.
72/. В. КН. ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОНСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ († 1351)
Князь пронський (1342–1344 рр.) та рязанський (1344–1349 рр.). Після його смерті Рязанське князівство перейшло до спадкоємців Івана Коротопола.
Можно предположить, что в 1343 году после убийства Коротопола, в Переяславле утвердились сыновья Александра Михайловича, не исключено, что ими же это убийство и было инспирировано. По родовому старшинству после 1344 года они имели право на Великое княжение, и, думается, являлись великими князьями рязанскими один за другим в период между 1342/44 и 1351 г., когда летопись сообщает: «В лето 6859. Преставися князь великий Василей Александровичь Рязанский».
Записан во Введенском помянника вместе с отцом, у которого перестановили местами имя и отчество: «Кн(язя) Михайла Александровича Прон(с)кого оубиенного о(т) своего брата | кн(язя) Ивана Ивановича о(т)павлыя (sic) и кн(я)ги(ню) [его] Феодосию и с(ы)нов е(го) кн(язя) Ярослава [и] кн(язя) Василия»202.
76/. В. КН. ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ПРОНСКИЙ И РЯЗАНСКИЙ (1365, † 1372)
князь Пронский. Родословные считают его или сыном Ярослава Александровича Пронского, приписывая последнему второе (христианское) имя Димитрия, или внуком Ярослава чрез неизвестного по летописям сына Ярослава — Димитрия. Летописи знают этого князя только под именем Владимира Пронского или Владимира Дмитриевича Пронского, и нет оснований считать Владимира Дмитриевича сыном Ярослава Александровича.
В 1365 г. принимал участие с вел. кн. Олегом Иоанновичем в разгроме под Шишовским лесом на Воине рати ордынского кн. Тагая 203
Владимир Дмитриевич, по воле великого князя Московского Димитрия, занимал великокняжеский Рязанский стол после Скорнищевской битвы 14-го декабря 1371 г., но еще до лета 1372 г. великий князь Рязанский Олег Иванович изгнал Владимира Дмитриевича из Рязани и «привел его в свою волю». Никоновская летопись под 1372 г. называет Владимира Дмитриевича зятем Олега Ивановича, что возможно, если не считать Владимира Дмитриевича сыном Ярослава Александровича, дяди Олега Ивановича. Владимир Дмитриевич, умерший в 1372 г., является первым достоверным родоначальником князей Пронских. Он имел или оставил единственного сына Ивана.
Летоп. по Лаврент. списку, СПб. 1897 г., стр. 606; Полн. Собр. Русск. Летоп. IV, 65, 67; V, 230, 232*; VII, 243; VIII, 13, 17, 19; XI, 5, 6, 14, 17, 19; ХV, 431; ХVI, 91, 95; XVII, 38, 39, 131; ХVIII, 104, 110, 112; XX, 191, 193, 194; ХХII (ч. 1), 412; ХХIII, 114, 116, 117; Иловайский, 164; Экземплярский, II, 584, 585, 628—630; Баумгартен. 4—5; «Жалов. грамота Олега Рязанского, древнейший докум. Моск. Арх. Мин. Юстиции. Снимок и текст со статьями Д. В. Цветаева и А. И. Соболевского», M. 1913, стр. 14, 33; Карамзин, IV, пр. 250; V, 6, 12, 16, 18, пр. 24, 29, 135, 137; Соловьев, I, 963, 965, 966, 973.
79/. КН. ЮРІЙ ЯРОСЛАВИЧ МУРОМСКИЙ († 1354)
Загинув у 1354 р.. У 1351 р. отримав Муром. Приїхав у це опустіле місто, відновив укріплення та старий княжий двір. За його прикладом у Муром почали переїжджати купці та ремісники. У 1354 р. в Орді ярлик на Муром отримав нащадок старої муромської династії Федір Глібович. Жителі Мурома розділилися. Юрій вирішив добиватися прав в Орді, але програв, був виданий супернику і загинув.
XVIII генерація від Рюрика
80/. КНЖ. АГРИПИНА ОЛЕГІВНА
У 1377 р. була видана за козельського князя Івана Титовича.
81/. КНЖ. ОЛЕНА ОЛЕГІВНА
Була видана за великого князя смоленського Юрія Святославича.
82/. КН. ФЕДІР ОЛЬГОВИЧ (*1370‑е, † 10.1427)
великий князь рязанский (с 1402), 2‑й сын вел. кн. рязанского Олега Ивановича, отец вел. кн. рязанского Ивана Фёдоровича. В 1387 женился на дочери вел. кн. владимирского Дмитрия Ивановича Донского – вел. княжне Софье Дмитриевне, что скрепило заключённый в дек. 1385 московско-рязанский мирный договор. В 1402 Ф. О. унаследовал рязанский стол после смерти отца, в том же году получил на него ярлык в Золотой Орде от хана Шадибека. В кон. 1402, находясь в состоянии войны с Вел. кн-вом Литовским (ВКЛ), заключил два союзных договора с моск. князьями. По второму из них (25.11.1402) Ф. О. пошёл на значит. политич. уступки в пользу вел. кн. московского Василия I Дмитриевича: признал себя его «молодшим братом», обещал проводить согласованную внешнюю политику в отношениях с Золотой Ордой и ВКЛ. По договору кн. Владимир Андреевич Храбрый и звенигородский кн. Юрий Дмитриевич признавались равными Ф. О., а остальные сыновья Дмитрия Ивановича Донского – его младшими братьями. Также Ф. О. должен был вернуть москвичей, пленённых рязанцами в 1380, 1385 и др. В свою очередь, москвичи обещали вернуть рязанцев, пленённых в 1371, 1382 и 1385. В 1405 и 1411 войска Ф. О. одержали победы над ордынскими отрядами, нападавшими на Рязанское вел. кн-во. В 1405 за 3 тыс. руб. выкупил старшего брата Родослава Ольговича из литов. плена. В 1405-06 братья, вероятно, создали дуумвират (при этом имя Ф. О. упоминалось в актах перед именем кн. Родослава Ольговича, умершего 14.11.1406). В 1406-07 оказал поддержку Василию I Дмитриевичу во время московско-литов. войны 1406-08.
В 1408 вел. кн. пронский Иван Владимирович добился в Золотой Орде у нового хана Пулада ярлыка на рязанский стол и при поддержке ордынцев занял Переяславль-Рязанский. В битве на р. Смядва 1.6.1408 войско Ф. О. (усиленное помощью из Москвы) потерпело поражение. Однако несколько позднее Ф. О. вернул себе рязанский стол, гарантировав неприкосновенность Пронского княжества.
В 1409 г. упомянут в источниках по поводу возвращения митрополита Фотия из Царьграда в Москву. 11 июля 1411 г. ливонский магистр Конрад фон Фитингхоф сообщал великому магистру Немецкого ордена Генриху фон Плауэну о новостях из Литвы, которые принесли ливонские послы. По его словам, Витовт совершил поездку в Смоленск, где в очередной раз встречался со своей дочерью (женой Василия I). Туда же прибыл «герцог Рязани». Упоминалось, что рязанский князь (должно быть, имеется в виду Федор Ольгович) долгое время был врагом Витовта, но теперь сам положился на его милость 204. Вероятно, между ними был заключен договор о мире. По московско-рязанскому договору 1402 г. великий князь Федор Ольгович имел возможность заключить союз с Витовтом только «по думе» с Василием I 205. Поэтому заключение литовско-рязанского договора в присутствии московских представителей можно рассматривать, как исполнение достигнутых ранее договоренностей между Москвой и Рязанью.
В 1414, спасаясь от ордынцев, во владения Ф. О. бежала часть населения Елецкого кн-ва. Умер, вероятно, не позднее 1417, т. к. этим годом в Описи 1627 датируется договор, заключённый в качестве вел. кн. рязанского его сыном Иваном Фёдоровичем.
Похоронен в Архангельском соборе Переяславля-Рязанского.
83/. КН. РОДОСЛАВ ОЛЬГОВИЧ († 1407)
Помер у 1407 р. (117, с.135). У 1402 р. під час походу на Брянськ був розбитий Лугвенієм-Семеном Ольгердовичем та Олександром Патрикеєвичем і потрапив у полон. Його відпустили тільки у 1405 р. за викуп у 3000 крб.
XIX генерація від Рюрика
84/. КН. ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ († 1407)
Помер у 1407 р..
85/. В. КН. ИВАН (ИН. ИОНА) ФЕДОРОВИЧ РЯЗАНСКИЙ († 1456)
Помер у 1456 р.. Великий князь рязанський (1427–1456 рр.). Вперше згадується у васальній угоді з великим князем литовським Вітовтом, яка найвірогідніше датується 1427 р. (24, т.1, N 25, с.17–18; 10, Lieferung, VII, N 161). Був у запрошений у Луцьк на коронацію Вітовта у 1430 р. За угодою 1434 р. Іван Федорович визнав Василя Косого та його братів рівними собі, що можна розглядати для Рязані як успіх. У 1447 р. заключив угоду з Москвою проти Литви. В угоді Москви з Литвою 1449 р. рязанський князь названий васалом Москви. У 1452 р. Казимір Ягеллончик скаржився Іванові Федоровичу на напади рязанців на литовські землі. Помираючи, Іван Федорович змушений був залишити опікуном сина московського князя.
великий князь Рязанский.
Из династии рязанских Рюриковичей, сын Фёдора Ольговича, внук великого князя рязанского Олега Ивановича и великого князя владимирского Дмитрия Ивановича Донского, отец Василия Ивановича. Управление рядом территорий и сбор доходов в Рязанском великом княжестве Иван Федорович делил с великим князем пронским Иваном Владимировичем, проводившим самостоятельную политику. По предположению Л. В. Черепнина, около 1417 года Иван Федорович заключил договор с великим князем московским Василием I Дмитриевичем, имевший, вероятно, промосковский характер.
Осенью 1425 года рязанское пограничье подверглось набегу ордынцев, Иван Федорович выслал войско, догнавшее и разгромившее их. В начале августа 1427 года в результате походов великого князя Витовта на пограничные территории Золотой Орды Иван Федорович, наряду с великими князьями тверским, пронским и новосильским, признал над собой его сюзеренитет [в 1430 году вместе с ними выезжал в Троки (ныне Тракай) на несостоявшуюся коронацию Витовта]. В обмен на защиту от внешней опасности признавал его политическое старшинство, обещал служить ему против внешних врагов, в т. ч. тех, кто хотел бороться против внука Витовта — великого князя московского Василия II Васильевича. При этом Иван Федорович отказывался от права заключать с кем-либо договоры или союзы без согласия Витовта. В случае конфликта между Московским великим княжеством, его удельными князьями и Великим княжеством Литовским (ВКЛ) Иван Федорович должен был поддерживать Витовта «без хитрости». Эта зависимость от ВКЛ стоила Ивану Федоровичу временные потери стратегически важных земель в верховьях реки Дон с городами Тула, Берестей и др. В 1430–1432 годах в связи с началом междоусобной борьбы за власть в ВКЛ Иван Федорович освободился от его сюзеренитета.
Чтобы объединиться в борьбе против внешних и, очевидно, внутренних врагов, великий князь Василий II Васильевич вместе с угличским князем Константином Дмитриевичем, можайским князем Иваном Андреевичем, белозерским князем Михаилом Андреевичем и боровско-серпуховским князем Василием Ярославичем заключили осенью 1432 года договор с Иваном Федоровичем. В начале 1434 года во время обострения Московской усобицы 1425–1453 годов Иван Федорович посылал свою рать на Галич. После поражения Василия II Иван Федорович был вынужден признать власть великого князя московского Юрия Дмитриевича и весной 1434 года заключил с ним договор, который, однако, действовал недолго из-за внезапной смерти великого князя московского 05.06.1434 года. В то же время Иван Федорович удалось вернуть у ВКЛ свои владения с городами Тула и Берестей. Иван Федорович сумел навязать и заключить с детьми умершего великого князя пронского Ивана Владимировича (во главе с князем Фёдором Ивановичем) выгодный для себя договор, установив свой сюзеренитет над Пронским великим княжеством. В случае каких-либо конфликтов между рязанскими и пронскими князьями третейским судьёй должен был выступать великий князь московский, а если бы ему не удалось их рассудить, — митрополит. Если решение последнего не исполнялось, то рассудить князей теперь должен был опять великий князь московский.
Весной 1437 года, в 1438 году и 1442 году владения Ивана Федоровича подвергались ордынским набегам XIII-XV веков, ордынцы разоряли рязанское пограничье, расположенное на спорных с Ордой землях, захватывали пограничные сёла и «полон». В этой борьбе политика Ивана Федоровича вынужденно носила оборонительный характер и не выходила за пределы Рязанского княжества. Он принял на службу князей Елецких, которые в 1‑й четверти XV века были вынуждены оставить свои владения в Левобережном Подонье. Зимой 1443/1444 года земли Ивана Федоровича были разорены войсками ордынского царевича Мустафы. Не имея возможности самостоятельно противостоять оставшимся на зимовку ордынцам, рязанцы обратились за помощью к великому князю московскому Василию II.
Согласно действовавшему с Иваном Федоровичем договору, великий князь московский выслал войска под командованием князя В. И. Оболенского и боярина А. Ф. Голтяева. На реке Листань (ныне река Листвянка) — притоке реки Ока — московские и рязанские войска, а также их мордовские союзники нанесли поражение войскам царевича Мустафы и захватили в плен ряд ордынских князей. В числе союзников русских князей летописи впервые упоминают рязанских казаков. Временное ослабление угрозы со стороны Орды, Московская усобица и борьба за власть в ВКЛ в 1445–1447 годах позволили Ивану Федоровичу полностью подчинить себе Пронское великое княжество, правители которого бежали в ВКЛ.
Литература: Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. М., 1858. М., 1997; Гуттен-Чапский Э. К. Удельные, великокняжеские и царские деньги Древней Руси. СПб., 1875;
Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2; Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М.; Л., 1948. Ч. 1; Флоря Б. Н. Великое княжество Литовское и Рязанская земля в XV в. // Славяне в эпоху феодализма. М., 1978; Шорин П. А. О метрологических особенностях и закономерностях в монетной чеканке великого княжества Рязанского // История и культура древнерусского города. М., 1989; Зимин А. А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. М., 1991; Антонов А. В. Новый источник по истории нагодчины // Русский дипломатарий. М., 2000. Вып. 6;
Сметанина С. И. Вотчинные архивы рязанских духовных корпораций XIII – начала XVI в.; Орешников А. В. Русские монеты до 1547 г. и материалы к русской нумизматике до царского периода. М., 2006.
86/. КНЖ. ВАСИЛИСА ФЕДОРОВНА
∞, КН. ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ СЕРПУХІВСЬКИЙ, син серпухівського князя.
XX генерація від Рюрика
87/. В. КН. ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ (* 1448, † 1483)
Народився у 1448 р. Помер у 1483 р. Великий князь рязанський (1456–1483 рр.). У 1456 р. був вивезений у Москву, а в Рязані його іменем стали правити намісники московського князя. Перша його грамота після повернення у Рязань датована 10.03.1463 р. (25, т.З, N 355). 28.01.1465 р. одружився з сестрою великого князя московського Івана Васильовича – Анною, яка померла у 1501 р.
Василий Иванович, сын великого князя Ивана Федоровича, великий князь Рязанский, род. в 1448 г., ум. 7‑го января 1483 г. По смерти отца, восьмилетним мальчиком был взят, «по приказу» отца, вместе с сестрой Феодосией на воспитание великим князем Василием Васильевичем Московским, а в Рязанские города «на соблюдение» были посланы Московские наместники. От имени малолетнего Василия Ивановича великий князь Василий Васильевич вел все внутренние и внешние дела Рязанского княжества; сохранились, напр., в источниках указания на «записи докончальные», заключенные Василием Васильевичем «за великого князя Василия Ивановича» с князьями царевича Касыма и др. Пробыв в Москве до 1463 г., юный князь был отпущен Иваном III и его матерью Мариею Ярославной на Рязань. В том же году зимой Василий Иванович вновь приезжал в Москву и женился там на младшей сестре Ивана III — Анне; брак был совершен 28-го января 1464 г. в соборной церкви Успения Пресвятые Богородицы. На память трех святителей (30-го января) молодые выехали в Рязань. Довольно продолжительное княжение Василия Ивановича носило мирный характер по отношению соседей, в частности, Москвы. Взаимному согласию обоих княжеств, несомненно, во многом способствовала супруга Василия Ивановича, ceстра Ивана III, великая княгиня Анна Васильевна, игравшая видную роль в Рязанской истории второй половины XV в. Между прочим, Анна Васильевна нередко гостила в Москве; в свое пребывание там в 1467 г. она родила (14-го апреля) сына Ивана. Весьма вероятно не без ее посредничества перед великим князем Иваном Васильевичем совершилось при ее муже окончательное присоединение к Рязани Пронского удела; впрочем, подробности этого дела остаются нам неизвестны. Перед кончиной Василий Иванович благословил старшего сына Ивана двумя третями княжества с городами Переяславлем (столицей княжества), Ростиславлем и Пронском со всеми волостями и отъезжими местами; второй сын, Федор, получил от отца в удел треть всего княжества с городами Перевитском, Старой Рязанью и третью Переяславских доходов; «четверть во всем» в наделах сыновей была отдана в пожизненное владение супруге Василия Ивановича, великой княгине Анне, скончавшейся значительно позже мужа (в 1501 г.). Кроме упомянутых сыновей Ивана и Федора, новейшие родословные приписывают Василию Ивановичу еще третьего сына, Петра (род. в 1468 г., ум. при жизни отца). Василий Иванович имел также неизвестную по имени дочь, бывшую с января 1498 г. в замужестве за князем Федором Ивановичем Бельским.
Полн. Собр. Русск. Летоп. ІV, 149, 152, 155; V, 274; VI, 36, 42, 43, 181, 185, 235, 241*, 277*, 278*; VII, 226, 244; VIII, 3, 147, 150—152, 155, 214, 234; XII, 112, 116, 117, 214; XVIII, 212, 216, 270; XX, 277, 350; XXI, 3, 473; XXIII, 158, 183, 191, 194; «Летописец, содержащий Российскую ист. с 1206 по 1534 г.», стр. 262, 305; А. Шахматов, «О так назыв. Ростовской летописи», M. 1904, стр. 72; «Собр. Гос. Гр. и Догов.» І, №№ 115—116, 127—128; «Акты XIII — XVII вв., представл. в Разрядн. Прик.», М. 1898, №№ 13, 26; «Рязанск. Достопам., собр. архим. Иеронимом. С примеч. И. Добролюбова», Ряз. 1889, §§ 86 и 93. — Д. Тихомиров, «Истор. исследов. о генеалогии князей Рязанск., Муромск. и Пронск.», М. 1844, стр. 18; Д. Иловайский, «История Рязанск. княжества», М. 1858, стр. 213—217, 290—291; А. Экземплярский, «Вел. и удельн. князья Сев. Руси в татарский период», т. 2‑й (СПб. 1891), стр. 600—601; К. Баумгартен, «К родословию последних великих князей Рязанских» — Летоп. Истор.-Родосл. Общ. в Москве 1907, в. 3‑й, стр. 5. — Н. М. Карамзин, «Ист. Госуд. Российск.», изд. 5‑е, V, 203; VI, 6, 114, пр. 1, 629 (под 1468 г.); С. М. Соловьев, «История России с древнейш. врем.», изд. 3‑е, Т‑ва «Обществ. Польза», I, 1083, 1386, 1387. — А. Пресняков, «Образование великорусского государства», Пг. 1918 г., стр. 255. — А. Селиванов «Деньга кн. Василия Ивановича Рязанского» — Журн. засед. Рязанск. учен. арх. ком. за 1884—1885 гг., стр. 40—41; О великой княгине Анне Васильевне см. статью Л. Б. Вейнберга «Личность Анны Васильевны, вел. княг. Рязанской» в «Труд. Рязанск. учен. арх. ком.» за 1889 г., т. IV, стр. 167—169, и его же статью в «Русск. Биогр. Слов.», т. II, стр. 156—157.
88/. КН. ПЕТР ІВАНОВИЧ (*
89/. КНЖ. ФЕОДОСІЯ ІВАНІВНА († після 1456)
У 1456 р. разом з братом була вивезена в Москву. Дальша доля її невідома.
XXI генерація від Рюрика
90/. В. КН.ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ (* 14.04.1467, † 29.05.1500)
Народився 14.04.1467 р. Помер 29.05.1500 р.. Великий князь рязанський (1483–1500 рр.). 9.06.1483 р. мусив підписати угоду з Москвою, у якій визнав себе молодшим братом великого князя московського. Не без впливу Москви виділив уділ молодшому брату Федору, з яким 19.09.1494 р. була підписана угода, в який Федір Васильович визнав себе молодшим і васалом великого князя рязанського.
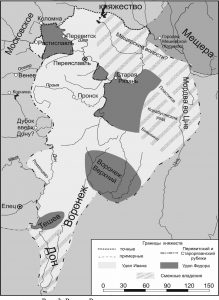
На приграничной зоне Литовского и Московского государств нередко возникали междоусобные столкновения, нападения на русские сторожевые посты, сопровождаемые грабежами, убийствами и пленением. Об этом свидетельствуют некоторые исторические документы того времени. В одном из них сообщается о жалобе Рязанского князя Великому государю о разбое воинских людей из городов Путивля, Рыльска, Мценска. По этому поводу Московский царь Иван III направил Литовскому князю Александру грамоту.
В документе от 29 июля 1497 года приводится речь московского посла Д. Загрязского, которую он произнес при вручении грамоты Литовскому князю: «Иоан, Божию милостью государь Всея Руси и велики князь, велел тебе говорити: бил нам челом сестритичь наш, князь велики Иван Резанской, жалуючи на твоих людей на Мченян, и на Рылян, и на Путивлян, и на иных твоих украинников, а сказывает, что его земле и его людем от твоих людей, опосле нашего с тобою докончанья (договора — Генеограф), много лиха починилося татьбами (убийствами — Генеограф), за разбои и наезды, и грабежи великими, колко людей до смерти побито, и головами сведено и животов люцких поймано, и колко сторожей на поле перебито и переграблено и головами сведено, которые стерегут христьянства от бессерменства; а нынеча, сего лета, о Трои-цине дни, Мченяне и Рыляне, пришед, да его детей боярских на сторожевище, на поле побили и пограбили, трех человек до смерти убили, а иные сечены поутекали» 206
∞, 1485, КНЖ. АГРАФЕНА ВАСИЛІВНА БАБИЧ, дочка князя Василя Бабич-Друцького (117, с.237).
91/. КН. ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ ТРЕТНОЙ ПЕРЕВИТСКИЙ (* 1483, † 1503)
Народився у 1483 р. Помер у 1503. Отримав від брата третину у Переяславі-Рязанському, Перевитеск і Стару Рязань. За угодою 19.08.1494 р. визнав себе васалом великого князя рязанського. У порушення цієї угоди передав свій уділ безпосередньо московському князеві, чим прискорив ліквідацію Рязанського князівства і приєднання його до Москви.
В 1498 году перевитский князь Федор Васильевич Третной пожаловал земли от р. Вобли до с. Городец против села Дединова (в современном Коломенском районе) рязанскому архиепископу Протасию, который основал на полученных землях ряд деревень.
После смерти Федора Васильевича в 1503 г. его удел переходит к московскому князю 207. Переход Перевитеска и Старой Рязани подтверждается актами, выданными московским князем. 208. Уже в духовной Ивана III зафиксирован факт владения уделом Федора Васильевича: «А что ми дал сестричич мои, кнѩз(ь) Фе(о)дѡръ Васил(ь)евич рѧзанскои, свою ѡтчинy на Рѧзани въ городѣ и на посаде свои жеребеи, и Старyю Рѧзан(ь) и Перевитебскъ с во-лостьми, и с пyтьми, и з селы, и з бортью, и с тамгою, и со всѣми пошли-нами, по томy, как сѧ дѣлил съ своим братомъ, со кн(ѧ)земъ с‑Ываном, и ѩз тy его вотчин(y), жеребеи в городѣ на Рѧзани и на посаде, и Старyю Рѧзан(ь), и Перевитескъ с волостьми, и с пyтьми, и з селы, и с бортью, и з тамгою, и со всѣми пошлинами, со всѣмъ по томy, как было за кн(ѧ) зем за Ѳеѡд(о)ром, даю с(ы)ну своемy Василью» 209.
92/. КНЖ. АННА ВАСИЛІВНА († 01.06.1548, ‡ Новодевичий монастырь, Москва)
Близько 1498 р. видана за князя Федора Івановича Бельського (117, с.244; 119, с.234).
В русско-литовской дипломатической переписке 1488–1495 г. первая жена князя Ф. И. Бельского, княжна Анна Семеновна Кобринская, упоминается неоднократно. Иван III просил отпустить ее к мужу и в конце концов получил на это согласие своего зятя, великого князя Александра Казимировича. Однако княгиня Бельская ехать не захотела, а когда Иван III наказывал Александру Казимировичу выслать к нему княгиню с приставом, тот отвечал, что в Литве не принято посылать жен к мужьям насильно. Последнее препирательство на эту тему произошло в августе 1495 г., после чего московская дипломатия забудет про жену князя Бельского 210, а сама княгиня Анна Бельская вторично выйдет замуж за Вацлава Станиславовича Костевича 211. Она умерла в 1519 г. и записана в Холмский помянник как Агата схимница 212. Тем временем Федор Иванович получил в Москве разрешение венчаться вторично от живой жены и вступил в 1498 г. в брак с Анной Васильевной, рязанской княжной и племянницей великого князя Ивана III, дочерью его сестры, двойной тезки Анны Васильевны 213. От этого брака было три сына: Дмитрий (ум. 1551 г.), Иван (ум. 1542 г.) и Семен (ум. между 1544 и 1549 г.) 214. Имя невесты князя Ф. И. Бельского в летописном известии о свадьбе в январе 1498 г. не названо. Оно определяется по росписи второй свадьбы ее двоюродного брата, Василия III, 21 января 1526 г.: «А за столом сидели боярыни князь Федорова княини Ивановича Бельского Анна». Сам князь Ф. И. Бельский в свадебном разряде не упомянут, но присутствует его сын, князь Дмитрий Федорович, как дружка жениха 215. Очевидно, в это время княгиня Анна Бельская – вдова. Следующее упоминание о княгине Бельской относится к 1534 г. 28 апреля ее сын князь Иван Федорович дал в Троице-Сергиев монастырь «по матери своей иноке Настасье вклад 10 рублев» 216. Логично предположить, что Анна Васильевна Бельская приняла в конце жизни монашество с именем Анастасии. Подтверждением этого является запись во вкладной книге Новодевичьего монастыря. 9 декабря в день, отмеченный во вкладной книге как «Зачатие св. Анны, егда зачат св. Богородицу», записано: «Память князь Федорова Ивановича Белсково княгини иноки Настасье, вкладу 200 рублев» 217, то есть память совершалась в праздник, отвечавший светскому имени княгини Бельской. Возможно, что это редкий случай совершения вклада на помин души при жизни. В той же вкладной книге Новодевичьего монастыря есть
другая запись, причем назван такой же объем вклада. Но дан он по инокине Александре: «1 июня година князь Феодора Ивановича Бельсково княгини иноке Александре, вкладу 200 рублев» 218. Дата кончины, 1 июня, совпадает с той, что указана на плите княгини Анастасии. В свете современных представлений о феномене русской средневековой полиномии, вероятно, у Анны могли быть, сверх мирского и монашеского, еще имена, и прежде всего крестильное. Умерла инокиня Анастасия в 1548 г. (7056 г.), 1 июня и похоронена в подклете собора Смоленского образа Богородицы в Новодевичьем монастыре 219.
∞,1498, КН. ФЕДОР ІВАНОВИЧ БЕЛЬСКИЙ.
XXII генерація від Рюрика
93/. В. КН. ІВАН ІВАНОВИЧ РЯЗАНСЬКИЙ (* 1496, † бл.1534)
Народився у 1496 р.. Помер бл.1534 р. в Литві. Останній великий князь рязанський (1500 — бл. 1520 рр.). До 1501 р. фактичним правителем князівства була його бабуся Анна Василівна, сестра великого князя московського, а потім мати. Угодою 1508 р. Москва змусила короля Сигізмунда визнати свої права на Рязань. З 1509 р. московські намісники сиділи у Перевитську. Московський натиск обурював широкі кола рязанської знаті та купецтва, які штовхали молодого князя на рішучі дії. Переговори з кримським ханом Мухаммед-Гіреєм у 1518–1519 рр. у яких йшлося про союз, скріплений шлюбом рязанського князя з кримською принцесою (51, c. 136), були використані Москвою як підстава для арешту Івана Івановича. Остання його грамота датується 4.06.1519 р. (25, т.З, N 388). Через зрадника боярина Семена Короб’їна князя заманили в Москву, де він був заарештований у травні 1520 р. Потім насильно була пострижена у черниці його мати (51, c. 136). Під час набігу кримського хана в серпні 1521 р. Іванові Івановичу вдалося втекти, однак всі спроби повернути собі Рязанське князівство закінчилися невдачею. Нелегко далось приєднання Рязані і Москві. Рязанці були впертими і їх масово переселяли в інші області (726, с.231–233).
последний великий князь рязанский (1500–1521). Из династии рязанских Рюриковичей, сын великого князя рязанского Ивана Васильевича. После смерти отца опекуном Ивана Ивановича (с 24.5.1500) была его бабка, сестра великого князя московского Ивана III Васильевича — великая княгиня рязанская Анна Васильевна (после смерти которой в апреле 1501 Ивану Ивановичу отошёл её удел — «четверть»). Затем опеку над Иваном Ивановичем взяла его мать — великая княгиня рязанская Агриппина Васильевна, урождённая княжна Бабич-Друцкая, действовавшая исключительно в русле политики великих князей московских. В 1502 году рязанские войска участвовали в походе русских войск на Смоленск в ходе русско-литовской войны 1500-03. В 1503 году Иван Иванович с матерью не смогли отстоять свои права на удел бездетного дяди Ивана Ивановича — князя Фёдора Васильевича Третного, который, согласно его завещанию, перешёл к Ивану III, что грубо нарушило условия заключённого 19.8.1496 договора между отцом Ивана Ивановича и князем Фёдором Васильевичем. Великий князь московский Василий III Иванович стремился оформить подчинённое положение Рязанского великого княжества по отношению к Русскому государству: с 1507 известны рязанские дворецкие, назначаемые из Москвы, в тексте Московского «вечного» мира 1508 с Великим княжеством Литовским (ВКЛ) владения Ивана Ивановича были записаны среди земель, принадлежавших московской стороне, претендовать на власть в которых не имели права великий князь литовский и король польский Сигизмунд I Старый и его преемники. В 1509 году в Перевитске появились московские наместники, а местная знать была привлечена на московскую службу. Усиление влияния великого князя Василия III Ивановича во владениях Ивана Ивановича вызывало озабоченность в Крымском ханстве, правители которого формально имели право выдавать ярлыки на княжение на данной территории. В октябре 1512 года это стало одной из причин набега царевича Бурнаш-Гирея на рязанские земли и Переяславль-Рязанский.С 1514/15 началось самостоятельное правление Ивана Ивановича. Московские наместники и гарнизоны, находившиеся в его городах, были выведены. Войска Ивана Ивановича перестали участвовать в военных действиях на стороне Василия III. Иван Иванович пытался опереться на ту часть местного боярства, которая поддерживала идею самостоятельности Рязанского великого княжества. В целях противодействия Русскому государству и снижения военной угрозы на южных границах Рязанского великого княжества Иван Иванович выступал за постепенное сближение с Крымским ханством и ВКЛ, которые могли бы гарантировать его независимость. Наиболее тесные контакты Ивана Ивановича с ханом Мухаммед-Гиреем I пришлись на 1518/19. По данным С. фон Герберштейна, союзники намеревались заключить не только тесный политический, но и династический союз: Иван Иванович должен был взять в жёны одну из ханских дочерей. Вероятно, данный план также нашёл поддержку у его матери, политическая позиция которой, по всей видимости, изменилась. Об этом стало известно великому князю московскому, и зимой 1519/20 Иван Иванович был вызван ко двору Василия III. Иван Иванович опасался ареста, но, получив гарантии безопасности от своего ближайшего окружения во главе с боярином С. И. Коробьиным, отправился в Москву, где был посажен под домашний арест. Великую княгиню Агриппину Васильевну увезли из Переяславля-Рязанского и постригли в монахини. Сторонники Ивана Ивановича и его матери были выведены за пределы Рязанского великого княжества, а в его города возвратились московские наместники. Узнав об этом, летом 1521 хан Мухам — мед-Гирей I вместе с литовскими отрядами Евстафия Дашковича предпринял поход на Русское государство. Во время паники, охватившей Москву в отсутствие великого князя Василия III Ивановича, Иван Иванович воспользовался благоприятной ситуацией и в ночь с 28 на 29.7.1521 вместе со своим окружением покинул город и отправился в Переяславль-Рязанский. Однако здесь Иван Иванович не смог получить серьёзной поддержки от своих служилых людей, так как большинство дворян остались верны присяге великому князю московскому, а гонцы Ивана Ивановича во главе с боярским сыном Д. Ф. Сунбуловым по приказу московского воеводы и окольничего И. В. Хабара Симского были задержаны. Потерпев неудачу, Иван Иванович получил охранительную грамоту от Сигизмунда I Старого и отъехал в ВКЛ, где ему в пожизненное владение было пожаловано имение Стоклишки в Ковельском повете Трокского воеводства.
Бегство Ивана Ивановича, а также некоторые колебания в начале августа 1521 года среди рязанских детей боярских вызвали озабоченность со стороны Василия III. Уже в конце августа в Переяславле-Рязанском начала работу следственная комиссия во главе с казначеем Ю. Д. Траханиотом, члены которой пытались установить круг лиц, либо сбежавших с Иваном Ивановичем, либо имевших на это планы. Не сразу удалось выяснить судьбу Ивана Ивановича, в связи с чем позднее в родословные источники 17 века проникли сведения, почерпнутые, очевидно, из документов комиссии, в которых сообщалось, что когда Иван Иванович «побежал с Москвы к Рязани», то он был убит татарами в Бронницах. В 1521–22 незаконность правления Ивана Ивановича в Рязанском великом княжестве попытались идеологически обосновать близкие к великокняжеской власти иосифляне. В известии, относящемся к 1500 году Русского хронографа, составленного Досифеем (Топорковым) в 1512, было внесено уточнение, согласно которому отец Ивана Ивановича был «князь великий Резаньский последний».
В 1522 Мухаммед-Гирей I посылал посольство к Сигизмунду I Старому с тем, чтобы тот склонил Ивана Ивановича к отъезду в Крым. Однако Иван Иванович, по-видимому, уклонился от этого, несмотря на ханские обещания вернуть ему власть над утраченными владениями. В это же время Иван Иванович писал митрополиту Даниилу, чтобы он ходатайствовал за него перед Василием III. В Москве внимательно следили за действиями Ивана Ивановича, о них русские дипломаты и их агенты сообщали Василию III (один из известных отчётов относится к 22.1.1524).
Материальное положение Ивана Ивановича в ВКЛ не было высоким: оно позволяло ему содержать слуг и местных бояр в Стоклишках, но не давало возможности начать борьбу за возвращение Рязанского великого княжества.
Приблизительная дата смерти Ивана Ивановича устанавливается на основании того, что летом 1534 имение Стоклишки уже считалось выморочным (по праву наследства его получил двоюродный брат Ивана Ивановича по женской линии — князь С. Ф. Вельский).
Іван Іванавіч, апошні з вялікіх разанскіх князёў, скарыстаўшыся набегам крымчакоў на Маскву ў 1521 г., збег з маскоўскай вязніцы ў Вялікае Княства Літоўскае 220. Аб жыцці Івана Іванавіча Разанскага ў Вялікім Княстве Літоўскім вядома няшмат. Ён атрымаў з рук Жыгімонта Старога двор Стоклішкі ў Троцкім ваяводстве. Адпаведны прывілей не захаваўся. Прынамсі, апошні разанскі князь ужо трымаў Стоклішкі ў кастрычніку 1524 г. 221. Што ж тычыцца яго ўладальніцкіх правоў на гэты маёнтак, то трыманне было ўмоўным. Аб гэтым сведчыць тое, што разанскі князь не меў права раздаваць стоклішскія землі сваім слугам. Пасля яго смерці такія падараванні былі ануляваныя 222. Слугі разанскага ўцекача не адрозніваліся законапаслухмянасцю. У 1533 г. яны разам са сваім гаспадаром былі выкліканы на суд за «бои и грабежи бояр стоклишских», але не з’явіліся ў вызначаны тэрмін 223.
У 1530 г. Іван Іванавіч быў названы сярод тых асоб, якія павінны былі дакументальна пацвердзіць правы на свае ўладанні 224. Матэрыяльнае становішча разанскага князя нельга назваць стабільным. У 1524 г. Жыгімонт Стары ўзяў на сябе («заступил») пазычаную ім у яўрэя Міхеля Езафовіча суму грошай і загадаў падскарбію земскаму зрабіць адпаведную выплату са скарбу 225. Невядома, ці было выканана гэта распараджэнне, але 11 лістапада 1533 г. у выніку судовага разбіральніцтва вялікі князь абавязаў Івана Іванавіча на працягу 16 тыдняў выплаціць Аўрашку Езафовічу 118 коп грошаў, якія той быў вінен яшчэ ягонаму бацьку Міхелю Езафовічу 226. Выканаць пастанову гаспадарскага суда апошні разанскі князь не паспеў: ён памёр да 11 лютага 1534 г., не пакінуўшы нашчадкаў 227. Падобна, што ён ніколі не жаніўся. Такім чынам, у Вялікім Княстве Літоўскім Іван Іванавіч атрымаў маёнтак, які забяспечваў яго матэрыяльнае становішча. Вялікі князь Жыгімонт аказваў яму падтрымку ў вырашэнні фінансавых праблем.
И.И. Рязанский был отмечен в синодике москов-ского Успенского собора228.
[Лит.: Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. М., 1858. М., 1997; Экземплярский А. В. Великие и удельные князя я Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2; Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. М., 1965; Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. М., 1972; он же. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. М., 1988; Антонов А. В. Из истории нагодчины в Рязанской земле // Русский дипломатарий. М., 1998. Вып. 4; Сметанина С. И. Новый документ о пребывании рязанского князя Ивана Ивановича в Литве // Русский дипломатарий. М., 2000. Вып. 6.]
Недостовірні персони
КН. ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ (1149)
В 1149 году Игорь Святославович был вынужден покинуть Рязань и бежать к Юрию Владимировичу «Долгорукому» в Киев: «Того же лета пріиде изъ Рязани въ Кіевъ къ великому князю Юрью Владимеричю князь Игорь Давыдович» [Полное собрание русских летописей. – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – М., 2000., с. 182]. Стоит отметить, что Игорь Святославович был назван летописцем вторым по счету великим князем рязанским. Первым так именуется его брат и предшественник Давид Святославович, после смерти которого в 1147 г. Игорь и занял престол [Полное собрание русских летописей. – Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – М., 2000., с. 172]. Очевидно, летописец допустил ошибку, написав «Игорь Давыдович», а не «Святославович», то есть сын, а не брат покойного Давида Святославовича [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність князя: реконструкція подій (частина друга) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 8. – 2016. – С. 50–58., с. 52]. По этому поводу стоит упомянуть три обстоятельства. Во-первых, у покойного Давида Святославовича не было детей, по крайней мере, никаких летописных сведений ни о супруге, ни о потомках великого князя летописец не оставил. Во-вторых, запись о прибытие «Игоря Давыдовича» относится к 1149 г., а мы знаем, что к тому времени именно Игорь Святославович уже два года занимал рязанский престол. И, в‑третьих, существует предположение, что именно в этот период Ростислав Ярославович сумел отбить Рязань у своего племянника и восстановить свои права на родовую вотчину [Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність князя: реконструкція подій (частина друга) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 8. – 2016. – С. 50–58., с. 52–53]
КН. ЮРИЙ РОСТИСЛАВИЧ
Микола Карамзін називав також третього, наймолодшого сина Ростислава – Георгія (Юрія)229, з чим погодилася частина дослідників230, попри відсутність про це літописних свідчень. Вірогідно, М. Карамзін помилково сприйняв статтю Никонівського літопису за 1175 р. про смерть Юрія Муромського231 (Юрія Володимировича), вирішивши, що той був сином Ростислава. Д. Іловайський датував згадку про Юрія Ростиславовича 1176 р.232, запозичивши, радше, версію М. Карамзіна. Натомість Олексій Гудзь-Марков, усупереч літописним свідченням, вказав, що в Муромі помер Юрій Ростиславович233 (а не Володимирович). Л. Войтович запропонував вважати ім’я Георгій (Юрій) хрестильним для Андрія Ростиславовича234, відтак ототожнивши Андрія Ростиславовича з Георгієм (Юрієм) М. Карамзіна, що цілком вірогідно.
Однак існування Юрія Ростиславовича (як третього сина Ростислава Ярославовича) ми все ж вважаємо доволі сумнівним, джерельно не підтвердженим і абсолютно
безпідставним.
КН. АНДРЕЙ ГЛЕБОВИЧ, СЫН КН. ГЛЕБА РОСТИСЛАВИЧА
Кн. Андрей в качестве старшего из детей кн. Глеба Ростиславича был «изобретен» М. Д. Хмыровым.235 В основе герменевтики автора лежит сообщение Ипатьевской летописи о походе в 1184 г. русского войска во главе с северским князем Игорем Святославичем на половцев.236 Среди участников кампании летопись называет «Андрея с Романом» – неких князей без указания их отчества. Посчитав Романом рязанского князя Романа Глебовича, М. Д. Хмыров решил, что упомянутый перед ним Андрей был его старшим братом. Отмечая при этом, что «дальнейших сведений о нем нет», автор поспешил избавиться от выдуманного им персонажа, предположив, что «он умер раньше летописного дележа земель муромо-рязанских между его братьями в 1186 г.». Несмотря на очевидную безосновательность данного построения, у него тем не менее нашлись сторонники.237 Однако полное молчание о кн. Андрее рязанского синодика, перечисляющего имена всех достоверно известных Глебовичей, безусловно свидетельствует об ошибочности представлений об историчности данной фигуры.238
КН. ІНГВАР-КУЗЬМА ІНГВАРЕВИЧ († 1237)
Загинув у 1237 р. Згаданий у «Повісті про розорення Рязані». А.Кузьмін не довіряє цьому джерелу. Проведя анализ летописных сообщений, относящихся к политической истории Рязанского княжества XIII в., пришел к обоснованному выводу о легендарности сведений «Повести о разорении Рязани Батыем», относящихся к эпизоду возвращения князей Ингваря Ингваревича (умер в 1235 г.)239 и Михаила Всеволодовича (погиб в 1217 г.) в Рязань и Пронск сразу после разорения княжества.240 Його сумніви досить вагомі, але проблема залишається відкритою.
25/. КН. РОМАН ІГОРЕВИЧ, СЫН ИГОРЯ ГЛЕБОВИЧА (* ...., 1207, † ....)
Фигура кн. Романа Игоревича единственный раз появляется в рассказе о владимирско-рязанском конфликте 1207–1208 гг. Лаврентьевская и восходящие к ней летописи сообщают о том, что во время осады Пронска кн. Всеволодом Юрьевичем на лагерь владимирцев, располагавшийся на судах («ладьях»), стоявших на приколе близ рязанского города Ольгова, напали рязанцы во главе с Романом Игоревичем. Кн. Всеволод выслал на помощь бывшего в тот момент его союзником рязанского князя Олега Владимировича, который, победив в битве своего двоюродного брата, заставил рязанцев отступить.241 Летописный рассказ полон деталей и выглядит вполне достоверно: «Они же гнаша наскоре к лодьям, си же видевше полк наш отступиша от лодьи и поставиша полк, наши же поставиша противу им, а по единой стране лодеиници».242 Внешне логичным выглядит само появление сына Игоря Глебовича во главе рязанской рати. Старший на тот период рязанский князь Роман Глебович, его племянники Ингварь и Юрий Игоревичи и большинство прочих местных князей уже были пленены Всеволодом и отправлены во Владимир.243 Возглавить сопротивление, очевидно, и должен был кто-то из оставшихся на свободе князей.
Данным эпизодом и ограничивается вся достоверная информация о существовании кн. Романа Игоревича. Длительное время считалось, что кн. Роман значится в списке князей, убитых в 1217 г. на съезде в Исадах.244 Однако А. В. Кузьмину удалось показать, что, по всей видимости, под данной персоной в летописях имеется в виду сын кого-то из младших Глебовичей, вероятнее всего, Ярослава.245
Поминальная запись с именами жертв указанного события в составе рязанского синодика отнюдь не противоречит, а скорее соответствует данному выводу. Кроме этого, кн. Роман Игоревич с титулом «великого князя рязанского» со ссылкой на запись в некой «полууставной тетради» фигурирует в «Летописи рязанской» («Рязанских достопамятностях») как правитель, при котором в 1208 г. епископом Арсением был заложен г. Переяславль Рязанский.246 Данную запись подробно разобрал А. Г. Кузьмин, считавший, что в ней Игоревичем ошибочно назван продолжавший еще править на Рязани в то время кн. Роман Глебович.247 При этом более обширен список источников, в которых имя Романа Игоревича следовало бы ожидать увидеть, но оно там отсутствует. Прежде всего, это родословцы. Князя с таким именем нет в «Начале о великих князех рязанских», находящемся в составе Воскресенской летописи. И это особенно странно, поскольку в обычных хронологических записях данного источника он фигурирует.248 Не упоминается Роман Игоревич и в аналогичном генеалогическом тексте рязанского происхождения, «Родословце князей русских».249 Тщетно пытаться обнаружить указание о таком князе и в родословцах XVI–XVII вв. Как правило, из сыновей кн. Игоря Глебовича в них находятся имена князей Ингваря и Юрия.250 Близок по содержанию к генеалогическим источникам, но тем не менее принципиально отличается от них по своему назначению «царский» синодик, составленный в 1556–1557 гг. В нем также находятся имена князей Ингваря и Юрия (Георгия) Игоревичей, но не Романа.251
Весьма примечательно отсутствие имени кн. Романа в перечне устроителей рязанского Ольгова монастыря, в котором упомянуты уже три Игоревича: Ингварь, Олег и Юрий.252
Кн. Роман Игоревич также отсутствует в помяннике рязанского синодика в неделю православия. Данная персона фигурирует в большинстве родословных схем и росписей рязанского княжеского дома.253 Это умолчание выглядит тем более удивительным, что, как уже отмечалось, особое внимание поминальные главки синодика уделяют именно потомкам кн. Игоря. Во всяком случае, в него записаны имена трех других достоверно известных сыновей Игоря Глебовича: Иоакима-Ингваря, Павла-Олега и Юрия (Георгия), а также их сестры Феодосии, значащейся при муже, великом князе владимирском Ярославе Всеволодовиче.
КН. ДАВИД ІНГВАРЕВИЧ [?]
За «Повістю» — муромський князь. Можливо тут просто допущена помилка і Давид Інгваревич не існував, а його сплутали з муромським князем Давидом Юрійовичем, який помер у 1228 р.?
КН. ФЕДІР ЮРІЙОВИЧ [?] († 1237)
Згідно з «Повістю» старший з рязанських князів Юрій послав свого сина Федора з багатими дарами до Батия, який дізнався про його красуню-дружину Євпраксію і захотів її бачити. Але Федір відповів, що християни не показують своїх жінок поганим язичникам, за що тут же був вбитий. Коли про це довідалася Євпраксія, вона з малолітнім сином кинулась вниз з вежі дитинця їх удільного центру Зарайск або Заразеск. Інша давня «Повість про перенесення чудотворного образу Миколи в Рязанську землю» розповідає про перенесення жони в Зарайськ ще в 1225 р.. Навколо міста немало пам’яток XII ст. У «Списку городів ближніх і дальніх» Зарайськ не згадується, що наштовхує на думку, що легенда про Євпраксію правдива і Зарайськ носив ще свою первісну назву — Новгородок на Осетрі. Назва «Заразеск» пов’язана з самогубством Євпраксії.
КН. ІВАН ФЕДОРОВИЧ [?] († 1237)
Загинув у грудні 1237 р. разом з матір’ю Євпраксією, яка кинулась з ним з вежі дитинця Новгородка на Осетрі (Зарайська).
Скрипторий
№ 1
Яз, князь Александръ Михаилович дал есми село Остромерское святымъ мучеником Борису и Глебу и отцу своему владыце Георгию куплю деда своего князя великого Ярослава Пронскаго и бабы своей княгини Феодоры в память и матери своей княгини Овдотьи с резанъком и шестьдесят, с виною, и с поличными и со всеми пошлинами, как от меня волостели ведали, з землею бортною, с поли и с пожнями против Oльговя, и на Переволоце, и на Острове и с перевесищи, и со вспуды, и со озеры, в Казарскомъ озере, и в ыстоце части, и с людми. А людей имена: Арестъ Конанко, Ониско Филимон бортникъ з братьею, Елизар, Василей, Веско, Перепотей Данилцо — бобровницы, Василей, Ceливерстов брат, подключник Нездя Онанья кузнецъ, Ларька, Власей. А земле бортной и селу уездъ от города по Гостошинской передел к Губошину, а от Олгова, от перевертов по Грязкой вниз до Оки, а земля бортная и за Оку знамена, а от Глебова и по Переделец вверхъ, а от верху Переделца по пути к Шевердину, за Шевердин по Березово вниз по дебрь, около Костищъ по межу, около Селиверстова двора мимо Опакова — село к Фралу Лавру, мимо Понкратово селище за Губошин по путь по Грязкой. A уездникъ от великого князя Александра от Пронскаго от Михаиловича даден.
ЛОИИ, рукописный отдел, коллекция Д. Воздвиженского, дело № 1,
Текст воспроизведен по изданию: Кузьмин А.Г. Древнейшая рязанская грамота XIV столетия // Советские архивы, № 1. 1967
№ 3
1510, Служилая кабала от 1510 г. : «Список великие княгини Огрофены* с докладной. Долож великие княгини Огрофены з докладной Федора Ивановича Сунбула.
Се яз, Оксинья Михайлова жена дьяконова, заняла есми, господине, у Ивана у Олтуфьева сына Кончеева 3 рубли денег от Рожеств а Ивана Предтечи на год и те есми деньги дал а муж у своему Михаилу, дьякону, Борисову сыну. А за рост мне у Ивана... работать ; а не похочю у него работать до сроку, и мне ему деньги его дать все и с ростом по росчету, как дают на пять шестой. А полягут деньги по сроце, и мне у него за рост работать по тому ж, а не отниматися мне у него от с е я кабалы ни полетного, ни изустного. А на докладе были Панкрат Михайлов сын Катов да Семен Тимофеев сын Денижников, Лет а 7018. А подписал великие княгини дья к Федор
Матвеев .
У подлинной печать на черном воску».
Акты А. Юшкова, № 78
* Аграфена Васильевна, вдова вел. кн. рязанского Ивана Васильевича.Среднее Поочье середины XIII — начало XVI вв. по А.И.Цепкову.
А.И.Цепков. «Рязанский край: сер
ПЕЧАТКИ
Печаток не знайдено
ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
- [1303 г.]. Жалованная данная тарханно-несудимая грамота рязанского великого князя Михаила Ярославича рязанскому епископу Стефану на земли («уезд») к селу Столицам у реки Прони [в Каменском стане Рязанского уезда].
- 1393.[XI.14],Переяславль. Рязанский великий князь Олег Иванович поручается перед королем Польши Владиславом (Ягайлом) за своего зятя князя Дмитрия Корибута в том, что он будет сохранять верность королю и не будет выступать против короля и тех, кто находится под его рукою.
- 1402–27 гг. – Жалованная данная тарханная грамота рязанского в. кн. Федора Ольговича иг. Солотч. м‑ря Мартирию на пуст. Бовыкинское с угодьями и рыбной ловлей на р. Паре в Рязанском княжестве.
- 1427–56 гг. — Жалованная грамота рязанского великого князя Ивана Федоровича Семену Повалише с детьми Иваном, Григорием и Фролом с освобождением их от повинностей и оброков
- 1440-ые гг. — 1456 г. — Жалованная льготная и несудимая грамота рязанского в. кн. Ивана Федоровича Константину Маслову на с. Старое «с селищи», нивами, пожнями и др. угодьями
- 1496 августа 19, Рязань. – Договорная грамота великого князя рязанского Ивана Васильевича с братом его родным князем Федором Васильевичем
- 1524 г. января 22. – Сказка псаря Федора о посещении новгородцем Кузьмой Патрикеевым рязанского князя Ивана Ивановича в Литве.
- Ок. 1327–1339 гг. Жалованная грамота князя Александра Михайловича села Остромерского Борисоглебскому монастырю
- Після 1356 р. Рязанський князь Олег Іванович дарує Арсенію монастир святої богородиці на Ольгові
- 1501 г. — Докладная грамота великой княгини Аграфены Васильевны из князей Бабичей, вдовы великого князя рязанского Ивана Васильевича, о займе Фетиньей Богдановой и внуком ее кн. Ив. Мещерским сорока рублей у Якова Ракова под залог вотчины.
АЛЬБОМИ З МЕДІА
Медіа не знайдено
РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ
- AGAD, Perg.7659; Perg.7713; APK, ASang, Teka VІІІ, Plik 36; BCz, Perg.898.[↩]
- Niesiecki K. Herbarz Polski.- Том VII.- Lipsk, 1841.- С.506.[↩]
- Войтович Л. Князівські династії.- С.212–214.[↩]
- Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991. С. 161[↩]
- см. А.В. Дедук А. В. Грамоты «великого» князя рязанского
Олега Ингваревича Ивану Шае.[↩] - РГАДА. Ф. 135. Приложение. Рубр. IV. № 2. Л. 1.[↩]
- Дудин А.А., Челяпов В.П. Проблема воинского культа на Рязанской земле и источники символики рязанского герба // Материалы и исследования по рязанскому краеведению: Сб. науч. работ. Т. 4. Рязань, 2003. С. 189; Шелковенко М.К. Кто изображен на гербе Рязани // Вторые Яхонтовские чтения: Мат-лы науч.-практ. конф. Рязань, 2003. С. 127–132.[↩]
- Шелковенко М.К. Герб Рязани: в поисках достоверности // Гербоведъ. 2001. № 4 (54). С. 114–115.[↩]
- Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. IV. М., 1992. С. 201–202. Прим. 90.[↩]
- Полное собрание русских летописей. – Т. 1: Лаврентьевская летопись. – Л., 1927., стб. 296[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.38 об.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.38 об.[↩]
- Воскресенская летопись // ПСРЛ. – СПб., 1856. – Т. 7. – С. 242. [↩]
- Муром, з невеликими перервами, був центром Муромо-Рязанського князівства до 1162 р., коли від нього
виокремилося Рязанське князівство.)У Никонівському літописі під 1131 р. сказано: «Того же лета князи Рязанстіи, и Пронстіи и Муромстіи много половець побиша».((Никоновская летопись // ПСРЛ. – М., 2000. – Т. 9. – С. 157.[↩]
- Никоновская летопись. – С. 158.[↩]
- Там же. [↩]
- Там же.[↩]
- Никоновская летопись. – С. 158.[↩]
- Никоновская летопись. – С. 159.[↩]
- Никоновская летопись. – С. 160. Літописець занотував Темирхоза печенігом, що цілком можливо. Із записів Абу Хамід аль Гарнаті, який відвідав Русь 1150 р., знаємо, що в Києві та його околицях проживала велика кількість печенігів. Детальніше див.: Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.) / О. Г. Большаков, А. Л. Монгайт. – М. : Наука, 1971 (поклик № 105, 106) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://сувары.рф/ru/content/puteshestvie-abu-hamida-al-
garnati-v-vostochnuyu-i-centralnuyu-evropu-1131–1153-gg[↩] - Воскресенская летопись // ПСРЛ. М., 1965. Т. XV.[↩]
- Воскресенская летопись // ПСРЛ. – СПб., 1856. – Т. 7. – С. 242. [↩]
- Муром, з невеликими перервами, був центром Муромо-Рязанського князівства до 1162 р., коли від нього виокремилося Рязанське князівство.)
У Никонівському літописі під 1131 р. сказано: «Того же лета князи Рязанстіи, и Пронстіи и Муромстіи много половець побиша».((Никоновская летопись // ПСРЛ. – М., 2000. – Т. 9. – С. 157.[↩]
- Никоновская летопись. – С. 158.[↩]
- Там же. [↩]
- Там же.[↩]
- Никоновская летопись. – С. 158.[↩]
- Никоновская летопись. – С. 159.[↩]
- Никоновская летопись. – С. 160. Літописець занотував Темирхоза печенігом, що цілком можливо. Із записів Абу Хамід аль Гарнаті, який відвідав Русь 1150 р., знаємо, що в Києві та його околицях проживала велика кількість печенігів. Детальніше див.: Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.) / О. Г. Большаков, А. Л. Монгайт. – М. : Наука, 1971 (поклик № 105, 106) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://сувары.рф/ru/content/puteshestvie-abu-hamida-al-
garnati-v-vostochnuyu-i-centralnuyu-evropu-1131–1153-gg[↩] - Воскресенская летопись // ПСРЛ. – СПб., 1856. – Т. 7. – С. 242. [↩]
- Иловайский Д. И. Указ. соч. – С. 41. [↩]
- Ипатьевская летопись. – Стб. 21.[↩]
- Про руський синонім слова племінник/небіж, детальніше див. Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. – К., 1998. – С. 190–194.[↩]
- Носенко, А. А. Ростислав Ярославович Рязанський. Життя та діяльність князя: реконструкція подій (частина друга) / А. А. Носенко // Студентські історичні зошити. – № 8. – 2016. – С. 50–58., с. 51.[↩]
- Див.: Никоновская летопись. – С. 173.[↩]
- Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Л., 1927. Т. 1, вып. 2. Стб. 384; Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРЛ. СПб., 1885. Т. 10. С. 4.[↩]
- Рязанские достопамятности, собранные архимандритом Иеронимом. Рязань, 1889. С. 5, 6. § 25; Архив СПбИИ РАН. Ф. 203. Оп. 1. Д. 62. Л. 50, 50 об.[↩]
- Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 112, 113.[↩]
- Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью.
Т. 10. С. 6.[↩] - Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 114, 115.[↩]
- Полное собрание русских летописей. – Т. 1: Лаврентьевская летопись. – Л., 1927., стб. 387–388.[↩]
- Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 115, 116.[↩]
- Там же. С. 116–118.[↩]
- Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Т. 10. С. 23.[↩]
- Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 130.[↩]
- Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Т. 10. С. 54, 55; Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 130–140.[↩]
- Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Т. 10. С. 56.[↩]
- Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 144.[↩]
- Там же. С. 147.[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 387].[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 387–388, 400–404].[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 387–388, 400–404].[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 387–388, 400–404].[↩]
- Полное собрание русских летописей. – Т. 1: Лаврентьевская летопись. – Л., 1927., стб. 401–402.[↩]
- Полное собрание русских летописей. – Т. 1: Лаврентьевская летопись. – Л., 1927., стб. 402–403.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 387–388, 400–404].[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 387–388, 400–404].[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 404].[↩]
- Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 127–129.[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 387–388, 400–404].[↩]
- Издательская помета указывает даже, что во всех трех списках он назван «вместо Ярослава» [ПСРЛ. Т. I. Стб. 404].[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- ПСРЛ. Т. 7. С. 243[↩]
- см., напр.: Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в Х — 1‑й пол. XIII в. М., 1977. С. 127, 132–133.[↩]
- НПЛ. С. 74.[↩]
- Татищев В. Н. История Российская. М., 1964. Т. 3. С. 230; проверить достоверность этой даты нечем.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. 392 с., стб. 514; Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. 948 с., с. 344–346[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. 938 Стб., стб. 778; Полное собрание русских летописей. Т. 3. Новгородская I летопись старшего и младшего изводов. М., 1950. 656 с., с. 75, 287; Полное собрание русских летописей. Т. 24. Типографская летопись. Пг., 1921. 272 с., с. 92.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. 392 с., стб. 515[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 3. Новгородская I летопись старшего и младшего изводов. М., 1950. 656 с., с. 75, 287.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. 938 Стб., стб. 778.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 24. Типографская летопись. Пг., 1921. 272 с., с. 92.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 9, 10. Никоновская летопись. М., 1965. 244 с., с. 105–106.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 9, 10. Никоновская летопись. М., 1965. 244 с., с. 105–106.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- АСЭИ. Т. 3. С. 350, 351. № 322; Кузьмин А. В. Рязанские, пронские и муромские князья… С. 40.[↩]
- Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. С. 89, 206; Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси… Т. 2. С. 570, 572; Кузьмин А. В. Олег Игоревич
Красный // Православная энциклопедия. М., 2018. Т. 52. С. 567–570.[↩] - ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- См. [ПЕП. С. 177; ПСРЛ. Т. XXI. С. 216]. Как известно, в домонгольской Руси существовали парные иконы свв. Кира и Иоанна (например, в Соборе Рождества Богоматери Антониева монастыря в Новгороде).[↩]
- Ср. [ПСРЛ. Т. II. Стб. 711]. Необходимо принять во внимание, что князь именуется в особой похвале, составленной по случаю возобновления им стены Михайлова монастыря, автор же этого текста питает явную приверженность к греческой образованности, украшая свою речь своеобразными грецизмами, к числу которых могло принадлежать и обращение «кюръ» (см. [Литвина 2004]).[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. II. Стб. 779 под1237 г.].[↩]
- См. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 490 под 1209 г.].[↩]
- Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1964. Т. 3,5. 860 с., Т. 3, с. 230[↩]
- Кузьмин А.Г. Рязанское летописание. М., 1965. 286 с., с. 175–176.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. 938 Стб., стб. 778; Полное собрание русских летописей. Т. 3. Новгородская I летопись старшего и младшего изводов. М., 1950. 656 с., с. 75, 287; Полное собрание русских летописей. Т. 24. Типографская летопись. Пг., 1921. 272 с., с. 92.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. 392 с., стб. 515; Кузьмин А.В. Рязанские, Пронские и Муромские князья в XIII – середине XIV века (историко-генеалогическое исследование) // Записки отдела рукописей РГБ. Статьи и сообщения. М., 2008. Вып. 53. С. 111–136., с. 41.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. 948 с., с. 344–361, 742–745.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 25. Московский летописный свод конца XV в. М.; Л., 1949. 464 с., с. 150; Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. 948 с., с. 742–745[↩]
- 28. Полное собрание русских летописей. Т. 4. Ч. 1. Новгородская IV летопись. М., 2000. 332 с., с. 228.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 16. Летопись Авраамки. М., 2000. 252 с., стб. 52.[↩]
- Джувейни Ата-Малик. Чингисхан. История завоевания мира. М., 2004. 689 с., с. 165–166, 168; Юрченко А.Г. Золотая Орда: между Ясой и Кораном. СПб., 2012. 368 с., р. 240; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.; Л., 1960. 248 с., с. 11.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 37. Устюжские и вологодские летописи XVI–XVIII вв. Л., 1982. 228 с., с. 165.[↩]
- Джувейни Ата-Малик. Чингисхан. История завоевания мира. М., 2004. 689 с., с. 398–399, 403–411; 50. Juvaini Ata-Malik. Genghis Khan: The History of the World Conqueror / Boyle J.A. (tr.), Morgad D.O. (ed.). Manchester, 1997. 763 р., р. 265; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.; Л., 1960. 248 с., с. 129–130, 131.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. 392 с., стб. 473.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 25. Московский летописный свод конца XV в. М.; Л., 1949. 464 с., с. 150.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. 938 Стб., стб. 779.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 25. Московский летописный свод конца XV в. М.; Л., 1949. 464 с., с. 150.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. 392 с., стб. 483; Кузьмин А.В. Рязанские, Пронские и Муромские князья в XIII – середине XIV века (историко-генеалогическое исследование) // Записки отдела рукописей РГБ. Статьи и сообщения. М., 2008. Вып. 53. С. 111–136., с. 43.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. 392 с., стб. 483; Кузьмин А.В. Рязанские, Пронские и Муромские князья в XIII – середине XIV века (историко-генеалогическое исследование) // Записки отдела рукописей РГБ. Статьи и сообщения. М., 2008. Вып. 53. С. 111–136., с. 43.[↩]
- «И были полки Ольговы...» С. 160 со ссылкой на Д И. Иловайского (С. 183. Прим. 28 к гл. IV). [↩]
- ПСРЛ. Т. 1 Стб. 208; Т. 10 С. 172; Т. 25 С. 392; Татищев В. Н. Указ. соч. Т. 4. С. 8.[↩]
- Славянские хроники. С. 185–186.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- ПСРЛ. Т. 1. Стб. 485.[↩]
- ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Стб. 486.[↩]
- ПСРЛ. Т. 18. Симеоновская летопись. С. 85.[↩]
- ПСРЛ. Т. 10. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. С. 173.[↩]
- ПСРЛ. Т. 18. Симеоновская летопись. С. 86–87.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- ПСРЛ. Т. 10. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. С. 176[↩]
- Полн. Собр. Русск. Летоп. X, 176·, ср. «Рязанск. Достопамятн.», § 55, пр. 189; Тихомиров, стр. 17; Иловайский, стр. 139; Экземплярский, II, стр. 577—578; Карамзин, IV, пр. 247, 264; Соловьев, I, 913.[↩]
- ПСРЛ. Т. 10. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. С. 194.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 38 об.[↩]
- ПСРЛ. Т. 1. Стб. 485.[↩]
- Там же.[↩]
- ПСРЛ. Т. 1. Стб. 485.[↩]
- АСЭИ. Т. III. М. : АН СССР, 1964. 688 с., № 309[↩]
- Приселков М. Д. Троицкая летопись. М.-Л. : АН СССР, 1950. 514 с., с. 352[↩]
- ПСРЛ Т. XVIII. Симеоновская летопись. М. : Знак, 2007. 328 с., с. 86–87[↩]
- ПСРЛ. Т. X. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб, 1885. 244 с., с. 176[↩]
- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. А.Н. Насонова. М.-Л. : АН СССР, 1950. 624 с., с. 96[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 42[↩]
- ПСРЛ. Т. 1. Стб. 485.[↩]
- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. А.Н. Насонова. М.-Л. : АН СССР, 1950. 624 с., с. 96[↩]
- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. А.Н. Насонова. М.-Л. : АН СССР, 1950. 624 с., с. 98; Приселков М. Д. Троицкая летопись. М.-Л. : АН СССР, 1950. 514 с., с. 359[↩]
- ПСРЛ Т. XXV. Московский летописный свод конца XV в. М.-Л. : АН СССР. 1949. 463 с., с. 168[↩]
- ПСРЛ. Т. 10. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. С. 194.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 39[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 39[↩]
- Хоруженко О. И. «Муж честен» Солохмир Мирославич в источниках XVI–XVII веков // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2023. № 1 (78). С. 7–19. DOI: 10.37724/RSU.2023.78.1.001.[↩]
- ГИМ. Музейское собрание, № 2989; Собрание А. С. Уварова, № 766–4°, 820–4°; РГАДА. Ф. 181, № 76, 85, 282, 1139; НИОР РГБ. Ф. 304/II. № 18; описания: Леонид, 1984, с. 141–143, 157–159; Бычкова М. Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический источник. — М. : Наука, 1975. — 216 с.10., с. 74–76, 78, 79.[↩]
- Мирославича (Архивский V список, Уваровский IV список).[↩]
- Только в Архивском VII списке.[↩]
- Нет (список Троицкий 18).[↩]
- другова (Архивский IV список, Архивский V список, список Г. С. Протопопова, Уваровский IV список, список И. И. Кириллова, Список Троицкий 18).[↩]
- Лотмира (список Троицкий 18).[↩]
- Только в Архивском VII списке.[↩]
- В Архивском VII списке нет, восстановлено по иным спискам.[↩]
- Отобумал (Архивский IV список), Обумах (Архивский V список), Абумал (список Троицкий 18).[↩]
- Тубумала (список Г. С. Протопопова, список Троицкий 18[↩]
- Нет (список Троицкий 18).[↩]
- Вуданые (список Троицкий 18), Дудановы (список Г. С. Протопопова).[↩]
- Пероватые (Архивский IV список), Бородатые (список И. И. Кириллова, список Г. С. Протопопова, список Троицкий 18).[↩]
- ГИМ. Музейное собрание, № 3387, 3434; Собрание А. С. Уварова, № 157, 343–1°; Собрание А. Д. Черкасова, № 27; Родословец, 1913; НИОР РГБ. Ф. 256. № 349 ; РГАДА. Ф. 181. № 67, 362, 475; Ф. 201. № 82; Востоков А. [Х.]. Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1842. — 905 с., с. 490–494; Леонид, архим. [Кавелин Л. А.]. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова. — М. : Т‑во тип. А. И. Мамонтова, 1894. — Ч. 3. — 567 с, с. 156–157, 159–161; описания: Бычкова М. Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический источник. — М.: Наука, 1975. — 216 с.10, с. 66–68, 75, 79, 80, 113; Тихомиров М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. — М. : Изд. Акад. наук СССР, 1962. — 184 с, с. 84–85[↩]
- см., напр.: Редкие источники по истории России. — М.: Ин‑т истории СССР, 1977. — [Вып. 2]. — 186 с., с. 120.[↩]
- Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. — СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1903. — 863 с., с. 251; Веселовский С. Б. Ономастикон: древнерусские имена, прозвища и фамилии. — М.: Наука, 1974. — 382 с, с. 85, 199, 259.[↩]
- Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: династическая история сквозь призму антропонимики. — М. : Индрик, 2006. — 904 с., с. 51.[↩]
- Древнерусские княжеские уставы. — М.: Наука, 1976. — 239 с., с. 128; Россия и греческий мир в XVI в. — М.: Наука, 2004. — Т. 1. — 527 с., с. 215; НИОР РГБ. Ф. 303/I. № 518. Л. 476 об., 477 об.; БАН. Л. 255, 257 об., 274[↩]
- Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. — СПб. : Изд. И. И. Толстого, 1891. — Т. 2. — 696 с., с. 575, 578–579, 626–627; Горский А. А. Московские «примыслы» конца XIII–XV в. вне Северо-Восточной Руси // Средневековая Русь. — М.: Индрик, 2004. — Вып. 5. — С. 114–190., с. 124–125, 129[↩]
- Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. — СПб.: Изд. И. И. Толстого, 1891. — Т. 2. — 696 с., с. 628–630[↩]
- Родословная книга по трем спискам // Временник Общества истории и древностей российских. — 1851. — Кн. 10, 2‑я пагин. — С. 1–286., с. 31.[↩]
- [Хитрово В. Н.]. Приложение к родословной книге рода Хитрово. — СПб. : Тип. В. Н. Майкова, 1867. — 468 с., с. 3.[↩]
- ГИМ. Собрание А. С. Уварова, № 570 ; НИОР РГБ. Ф. 178. № 734 ; Ф. 228, № 182 ; РГАДА. Ф. 181, № 173, 176 ; описания: Бычкова М. Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический источник. — М. : Наука, 1975. — 216 с. 10, с. 58, 60[↩]
- ГИМ. Собрание А. С. Уварова, № 206, 209; Памятники истории русского служилого сословия. — М.: Древлехранилище, 2011. — 555 с.; РГАДА. Ф. 201. № 83; описания: Бычкова М. Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический источник. — М. : Наука, 1975. — 216 с. 10, с. 53–54.[↩]
- Хоруженко О. И. «Муж честен» Солохмир Мирославич в источниках XVI–XVII веков // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2023. № 1 (78). С. 7–19. DOI: 10.37724/RSU.2023.78.1.001.[↩]
- Хоруженко О. И. «Муж честен» Солохмир Мирославич в источниках XVI–XVII веков // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2023. № 1 (78). С. 7–19. DOI: 10.37724/RSU.2023.78.1.001.[↩]
- АСЭИ, 1964. Т. III. М. С. 353, 355; Сборник МАМЮ, 1913. Т. I. Ч. I. М. С. 57—63; Гамаюнов А. И., 2002. К вопросу о достоверности первого упоминания Венева//АРИ. Вып. 7. М. С. 325—333.; Дедук А. В., 2012. «Рязанская» купля Василия Темного: границы и территория, судьба в составе Московского княжества во второй половине XV — начале XVI в.//Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 5. Минск. С. 145—146, 151—152.[↩]
- Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV — XVI вв. / отв. ред. С. В. Бахрушин. М — Л. : АН СССР, 1950. 594 с., с. 52, 85, 143, 285[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- Воскр., ПСРЛ, т.7, с.206[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- Лаврський альманах. Спецвипуск 7. Помєнник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Упорядкування Олексія Кузьмука. Київ, 2007, стр. 17–19.[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л.42[↩]
- ПСРЛ, т.7, с.209.[↩]
- ПСРЛ. Т. VII. Летопись по Воскресенскому списку. СПб, 1856. 358 с., с. 243[↩]
- ПСРЛ. Т. XV. Рогожский летописец. Тверской сборник. М. : Языки русской культуры, 2000. 432 с., с. 245[↩]
- Приселков М. Д. Троицкая летопись. М.-Л. : АН СССР, 1950. 514 с., с. 365–366[↩]
- Приселков М. Д. Троицкая летопись. М.-Л. : АН СССР, 1950. 514 с., с. 366[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 39[↩]
- Прокофьев Н.И. Хождение Игнатия Смольнянина // Литература Древней Руси. М., 1975. С. 123–149. С. 108.[↩]
- Прокофьев Н.И. Хождение Игнатия Смольнянина // Литература Древней Руси. М., 1975. С. 123–149. С. 99.[↩]
- Прокофьев Н.И. Хождение Игнатия Смольнянина // Литература Древней Руси. М., 1975. С. 123–149. С. 109.[↩]
- Каменный рязанский Успенский собор, по другим данным, был выстроен во время учреждения в Рязани епископской кафедры между 1187 и 1207 годами[↩]
- Известно, что ныне существующийв пределах современного Рязанского кремля Успенский собор был построен в конце XVII века зодчим Я.Г. Бухвостовым. Исследователи памятников Рязани говорят, что в связи с постройкой этого собора ранее существовавший каменный собор был переименован в Христорождественский. Последний неоднократно перестраивался и потому дошел до нас, имея внешнее обличие здания XIX века.[↩]
- Прокофьев Н.И. Хождение Игнатия Смольнянина // Литература Древней Руси. М., 1975. С. 123–149. С. 99.[↩]
- Прокофьев Н.И. Хождение Игнатия Смольнянина // Литература Древней Руси. М., 1975. С. 123–149. С. 108.[↩]
- Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 11. С. 93 ; «И были полки Ольговы...». Свод летописных известий о Рязанском крае и сопредельных землях до 50‑х годов XVIв. / сост. А.И. Цепков. М.:Прогресс-Культура,1994. С. 471.[↩]
- Прокофьев Н.И. Хождение Игнатия Смольнянина // Литература Древней Руси. М., 1975. С. 123–149. С. 99[↩]
- Прокофьев Н.И. Хождение Игнатия Смольнянина // Литература Древней Руси. М., 1975. С. 123–149. С. 109[↩]
- Прокофьев Н.И. Хождение Игнатия Смольнянина // Литература Древней Руси. М., 1975. С. 123–149. С. 109[↩]
- Прокофьев Н.И. Хождение Игнатия Смольнянина // Литература Древней Руси. М., 1975. С. 123–149. С. 109.[↩]
- ПСРЛ, т.7, с.209[↩]
- ОР РГБ, ф. 256, № 98 л. 39[↩]
- Лаврський альманах. Спецвипуск 7. Помєнник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Упорядкування Олексія Кузьмука. Київ, 2007, стр. 17–19.[↩]
- Лаврський альманах. Спецвипуск 7. Помєнник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Упорядкування Олексія Кузьмука. Київ, 2007, стр. 17–19.[↩]
- ПСРЛ. Л., 1982. Т. 18. С. 73, Т. 6. Вып. 1. Стб. 436; Т. 15. Вып. 1. Стб. 80; Т. 18. СПб., 1913. С. 104 и др.[↩]
- Liv‑, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Bd. 4. №1888. Sp. 780; Codex epistolaris Vitoldi magni Ducis Lithuaniae 1376–1430 / Collectus opera Antonii Prochaska // Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Crakoviae, 1882. №482. S. 225.[↩]
- ДДГ. №19. С. 55.[↩]
- Сб. РИО, т.36. СПб, 1882. С. 235–236; Из истории Курского края. — Воронеж, 1965. С. 36.[↩]
- Иловайский, Д. История Рязанского княжества / Д. Иловайский. – М., 1858., с. 219–224; Кузьмин, А. Г. Рязанское летописание: Сведения летописей о Рязани и Муроме до середины XVI в. / А. Г. Кузьмин. – М., 1965., c. 274–275; Экземплярский, А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в та-тарский период с 1238 по 1505 г.: Биографические очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям / А.В. Экземплярский. – Т. II. – СПб., 1891., c. 605[↩]
- См.: Сметанина, С. И. Вотчинные архивы рязанских духовных корпораций XIII – начала XVII вв. / С. И. Сметанина // Русский дипломатарий. – Вып. 6. – М., 2000., № 111, c. 269; № 170, c. 278; № 194, c. 283; № 227, c. 289[↩]
- Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV– XVI вв. / подгот. к печ. Л. В. Черепнин. – М.; Л., 1950., № 89, c. 357–358[↩]
- Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1882. Т. 35. С. 299.[↩]
- Wolf, J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. Warshava, 1895. 698 s., s. 165–168[↩]
- Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львiв, 2000 [Электронный ресурс]. URL:
http:// izbornyk.org.ua/dynasty/dyn08.htm (дата обращения: 06.07.2020).[↩] - ПСРЛ. СПб., 1901. Т. 12. С. 246.[↩]
- Зимин А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. 350 с., с. 125–127; Кром М. М. Судьба авантюриста: князь Семен Федорович Бельский // Очерки феодальной России. М., 2000. Вып. 4. С. 98–115., 2000, с. 114[↩]
- Разрядная книга 1475–1598 гг. / Подг. текста, ввод. статья и редакция В. И. Буганова; Отв. ред. М. Н. Тихомиров. М., 1966. С. 9.[↩]
- Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / Изд. подгот. Е. Н. Клитина, Т. Н. Манушина, Т. В. Николаева; Под ред. Б. А. Рыбакова. М., 1987. С. 90.[↩]
- Источники по социально-экономической истории России XVI–XVIII вв.: из архива Московского Новодевичьего монастыря / Подг. текста В. Б. Павлова-Сильванского; Под ред. В. И. Корецкого. М., 1985. С. 176.[↩]
- Источники по социально-экономической истории России XVI–XVIII вв.: из архива Московского Новодевичьего монастыря. С. 199.[↩]
- Л. А. Беляев, С. Ю. Шокарев, С. Г. Шуляев. Саркофаг княгини Анастасии Бельской в подклете Смоленского собора московского Новодевичьего монастыря.[↩]
- Иловайский, Д.И. История Рязанского княжества / Д.И. Иловайский. – М.: Унив. тип., 1858. – 329 с., с. 156–157; падрабязна аб апошніх гадах Разанскага княства і лёсе Івана Іванавіча да ўцёкаў з Масквы: Иловайский, Д.И. История Рязанского княжества / Д.И. Иловайский. – М.: Унив. тип., 1858. – 329 с., с. 145–159.[↩]
- Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 224 (1522–1530) / I. Valikonitė, S. Lazutka ir kt. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997. – 664 p., с. 136.[↩]
- Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 227 (1533–1535) / I. Valikonitė, S. Lazutka ir kt. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999. – 400 p., с. 105–106.[↩]
- Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 225 (1528–1547) / I. Valikonitė, S. Lazutka ir kt. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994. – 488 p., с. 129.[↩]
- Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 15 (1528–1538) : Užrašymų knyga 15 / Parengė A. Dubonis. – Vilnius: Žara, 2002. – 446 p., с. 291.[↩]
- Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 224 (1522–1530) / I. Valikonitė, S. Lazutka ir kt. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997. – 664 p., с. 111.[↩]
- Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 225 (1528–1547) / I. Valikonitė, S. Lazutka ir kt. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994. – 488 p., с. 134–135.[↩]
- Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Lietuvos Metrica: Kn. 227 (1533–1535) / I. Valikonitė, S. Lazutka ir kt. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999. – 400 p, с. 105–106.[↩]
- ДРВ. Ч. 6. С. 447.[↩]
- Карамзин Н. М. История государства Российского / Н. Карамзин. – М., 1991. – Т. 2–3. – С. 528.[↩]
- Иловайский Д. И. Указ. соч. – С. 330; Донской Д. В. Указ. соч. – С. 549; Гудзь-Марков А. В. Домонгольская Русь в летописных сводах V–XIII вв. / А. Гудзь-Марков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oldrushistory.ru/library/Aleksey-Gudz-Markov_Domongolskaya-Rus-v-letopisnykh-svodakh-V-XIII-vv/61[↩]
- Никоновская летопись. – С. 248.[↩]
- Иловайский Д. И. Указ. соч. – С. 330.[↩]
- Гудзь-Марков А. В. Указ. соч. [↩]
- Войтович Л. В. Назв. праця. – С. 380.[↩]
- Хмыров М. Д. Алфавитно-справочный перечень удельных князей русских и членов царствующего дома Романовых. СПб., 1871. Ч. 1: А–И. С. 26. № 310.[↩]
- Ипатьевская летопись // ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Стб. 628, 629.[↩]
- Дурасов В. А. Родословная книга всероссийского дворянства. СПб., 1906. Ч. 1. Гл. 2. С. 27; Славянская энциклопедия: Киевская Русь – Московия. М., 2003. Т. 1. С. 30; Безроднов В. С. Новые сведения о Черниговских князьях сер. XIII – вторая пол. XV вв. (опыт генеалогического исследования). М., 2022. С. 382.[↩]
- Об этом см: Азовцев А. В. Генеалогия рязанских князей: спорные вопросы и их разрешение / А. В. Азовцев. – Рязань: П. А. Трибунский, 2024. – 371 с.: ил. С. 193–194.[↩]
- Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1964. Т. 3,5. 860 с., Т. 3, с. 230[↩]
- Кузьмин А.Г. Рязанское летописание. М., 1965. 286 с., с. 175–176.[↩]
- Лаврентьевская летопись. Вып. 2. Стб. 431, 432; Симеоновская летопись // ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 18. С. 45; Летопись по Воскресенскому списку. Т. 7. С. 115; Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Т. 10. С. 57.[↩]
- Лаврентьевская летопись. Вып. 2. Стб. 432.[↩]
- Там же. Стб. 430, 431; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 50, 247, 248; Новгородская четвертая летопись // ПСРЛ. Пг., 1915. Т. 4, ч. 1, вып. 1. С. 181; Симеоновская летопись. С. 44; Летопись по Воскресенскому списку. Т. 7. С. 114, 115; Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Т. 10. С. 56, 57.[↩]
- Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. С. 57; Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 148; Рапов О. М. Княжеские владения на Руси... С. 126; Войтович Л. В. Княжа доба. С. 382.[↩]
- Кузьмин А. В. Рязанские, пронские и муромские князья… С. 37–39.[↩]
- РГАДА. Ф. 181. Оп. 8. Д. 680. Л. 7; Рязанские достопамятности…. С. 10. § 36.[↩]
- Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 140.[↩]
- Летопись по Воскресенскому списку. Т. 7. С. 114, 115, 242.[↩]
- РГАДА. Ф. 181. Оп. 10. Д. 951. С. 14–16 об.[↩]
- См., например: Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. М., 1787. Ч. 1. С. 54; «Сказание вкратце сущим от Адама до днешняго времени. Родословие». Неизвестный родословный памятник первой трети XVI в. из рукописи Славянской библиотеки в Праге // Российская генеалогия: научный альманах. М., 2020. Вып. 7. С. 49.[↩]
- Каштанов С. М. Царский синодик 50‑х годов XVI в. // Историческая генеалогия.
Екатеринбург; Париж, 1993. Вып. 2. С. 53, 64, примеч. 126–126.[↩] - АСЭИ. Т. 3. С. 351.[↩]
- Иловайский Д. И. История Рязанского княжества // Сочинения Д. И. Иловайского. М., 1884. Т. 1. Родословная таблица; Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. Вклейка после с. 284; Рапов О. М. Княжеские владения на Руси… С. 126; Коган В. М. История дома Рюриковичей (опыт историко-генеалогического исследования). СПб., 1993. С. 231; Войтович Л. В. Княжа доба. С. 382.[↩]