Общие сведения о роде
ОДОЕВСКИЕ — русский княжеский род, из черниговских Рюриковичей. Младшая ветвь в потомстве вел. кн. новосильского Романа Семёновича, ближайшие родственники князей Белёвских и Воротынских. В кон. 14 – 1‑й четв. 15 вв. были частью правящей династии самостоят. Новосильско-Одоевского княжества, после 1427 служилые князья с индивидуально-групповым статусом в Вел. кн-ве Литовском (ВКЛ), в 1490‑х – 1580‑х гг. служилые князья с индивидуальным статусом в Московском гос-ве. С кон. 16 в. входили в состав высшей знати Московского государства.
Кн. Одоевские в годы опричнины окончательно лишились родовых княжеских владений в Верхнеокском крае (родового «удела» в Лихвине).1 В конце XVI — начале XVII в. они выступают довольно крупными землевладельцами, хотя их владения значительно уступали по размерам владениям их сородичей кн. Воротынских. Согласно росписи русского войска 1604 г., кн. Иван Никитич Большой Одоевский выставил в поход против Самозванца 23 вооруженных всадника (т. е. имел около 2300 четв. поместной и вотчинной земи), а его племянник выставил 12 всадников «оприч вяземской земли» (около 1200 четв.).2
Поколенная роспись рода
I Рюрик, князь Новгородский
II Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945
III Святослав I Игоревич, великий Киевский 942–972
IV Владимир I, великий князь Киевский +1015
V Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978‑1054
VI Святослав II, великий князь Киевский 1027–1076
VII Олег Гориславич, князь Черниговский +1115
VIII Святослав Ольгович,
IX Игорь Святославич
X Олег-Павел Игоревич
XI Юрий Ольгович
XII Семён Юрьевич
XIII Михаил Семёнович князь Глуховский
XIV Семён Михайлович, князь Глуховский и Новосильский
XV Роман Семёнович, князь Новосильский и Одоевский
XVI генерація від Рюрика
1. КНЯЗЬ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ НОВОСИЛЬСКИЙ И ОДОЕВСКИЙ (1424,1430)
третий сын князя Романа Семеновича Новосильского, известный из родословцев, родоначальник одоевской ветви новосильских князей 3. В Румянцевском и Государевом родословцах указан без титула 4. В родословцах Летописном, Патриаршей редакции и Редакции начала XVII в. записан с титулом князя «Новосильского» 5. В летописях под 1423 и 1424 гг. Юрий указан с титулом князя «Одоевского» по его стольному городу; в письме Витовта от 1 января 1425 г.: «herczog von Odoiow» (нем.) 6. Однако есть все основания полагать, что при заключении докончания с Литвой в августе 1427 г. именно он выступал с титулом «gross herczog von Nowossilesk» (нем.) 7. Союзник моск. князей в борьбе с Мамаевой Ордой, участник походов на Рязанское вел. кн-во (1371, 1385) и Тверское вел. кн-во (1375), правитель Одоевского кн-ва (нач. 15 в. – не ранее 1427), в мае 1407 ряд владений его сыновей был ненадолго захвачен войсками вел. кн. литовского Витовтаво время моск.-литов. войны 1406-08.В кон. 1‑й четв. 15 в. из-за неспокойной воен.-политич. обстановки на границе с улусами Орды сблизился с правителями ВКЛ. В 1423 г. на Одоев совершил нападение хан Барак, который хоть города и не взял, но захватил много пленных, отбитых вскоре князем Юрием. В 1424 г. город подвергся нападению хана Куидата. Князь Юрий, с помощью рати, направленной великим князем литовским Витовтом, смог отогнать вражеское войско.
В 1427 в условиях начала Московской усобицы 1425–53 вслед за рязанским и пронским вел. князьями присягнул на верность и взял на себя обязанности «службы» Витовту. Именно в 1420‑е гг. политика Витовта была направлена на сближение с князьями новосильского дома, что особенно проявилось после смерти его зятя – великого князя московского Василия I († 1425 г.). В конце июля – начале августа 1427 г. Витовт совершил поездку в Новосильско-Одоевскую и Рязанскую земли, а затем 14 августа писал из Смоленска великому магистру Немецкого (Тевтонского) ордена: «Тут нас посетили великие герцоги, те самые из русских стран (земель), которых также в их [странах] почтительно называют великими князьями: рязанские – переяславский, пронский; новосильский со своими детьми, и также из знаменитой Одоевской страны – герцоги и герцогиня-вдова воротынские» 8. С опорой на письмо спутника Витовта – шута Генне от 15 августа следует полагать, что великому князю литовскому присягнули пять князей новосильского дома 9. В письме Витовта под «великим князем новосильским» подразумевается Юрий Романович. Далее стоит ссылка на его сыновей (во множественном числе) – князей Ивана и Семена, а также воротынских князей (во множественном числе) – Федора и Василия Львовичей, вместе с их матерью – вдовой князя Льва Романовича.
В более позднем списке Белорусской I летописи – супрасльском первой половины XVI в., помимо известия о съезде 1430 г., помещен ранний летописный вариант «Похвалы Витовту» 10. Протограф «Похвалы» известен в списке 1428 г. слов Исаака Сирина. В этом фрагменте Супрасльского списка, не имеющем заголовка, впервые в летописании повествуется о съезде у великого князя Витовта в великом Луцке. Но сообщается о приезде в Луцк лишь «цесаря римского» и одновременно короля венгерского Сигизмунда с супругой 11. О великом князе московском отмечено, что с витовтом он «во велицеи любви живяше, а «велики князь тферьскии и великии князь резанскыи, и великии одоевъскыи» названы в составе несколько неопределенного списка, где «иже не обретеся … ни град, ни место, иже бы не приходили к славному господа Витовъту» 12. причем в «похвале» из рукописи 1428 г. князья одоевские вообще не упоминаются. В Никифоровском списке Белорусской I летописи (1‑й белорусско-литовский летописный свод) содержится упоминани о съезде знати на предполагавшуюся коронацию литовского великого князя Витовта в августе–октябре 1430 г. в Троках и Вильно. В списках этого свода содержится наиболее полный среди летописных источников перечень гостей Витовта. В числе приглашенных «и одоевьскыи князи сами были» 13.
25 апреля 1434 (в день св. Филиппа и Иакова) писал Свитригайло к великому магистру Тевтонского ордена из Смоленска: что добрые, верные и искренние друзья его в Польше и Литве, равно и подданые его, на границе находящиеся, уведомили его о намерении поляков, в Троицын день истребить огнём, мечём или голодом замки его Лавцк (здесь, Луцк) и Кременец, и соединясь с литовцами, напасть на его земли. Что Воевода его Немира (в Коцебу «Немиза»), наместник Брянский, прибыл к нему от татарского Хана Сеид Ахмета вместе с великим князем этого Хана, по имени Бато, и с главным предводителем войск его. Послы эти донесли ему, что Хан с сильным войском и со всеми князьями и воеводами своими изготовился уже к походу и ожидает назначения его. Вследствие этого, Свитригайло, по совету князей своих и вельмож, отправил к Сеид Ахмету Ивашку Менивидовича с предложением, да благоволит Хан идти к границе польской и охранять города и замки; между тем как он сам с прочими союзными войсками двинется в землю литовскую. Что великий князь Московский Юрий прислал к нему сына своего с многочисленным войском, равно как и великий князь Тверский и князья Одоевские «коих предшественники наши никогда не могли иметь своими союзниками; и Хан отдал нам сих князей Одоевских и принадлежащие им земли во владение и собственноручно утвердил оные за нами.» Почему Орден с своей стороны должен всячески стараться о развлечении и ослаблении польских войск. «Если мы таким образом, будем помогать друг другу, как дали в том обет и клялись вместе с подвластными нам; тогда с помощью Божьею, легко противостоять можем врагам нашим.» Далее сообщает Свитригайло, что поляки неоднократно предлагали ему мир, если он только оставит Орден; но что он никогда на это не согласится. Что и сам император Римский увещевал его быть верным Ордену; «что мы всегда делали, делаем и вечно делать будем, и не нарушим клятвы и обета нашего.» Он твёрдо уверен, что Гросмейтер исполнен тех же чувств; чего ради и посылает к нему благородного Гаврила Церле, тайного Секретаря своего, который всё прочее словесно объяснити ему 14.
XVII генерація від Рюрика
2/1. КН. ИВАН (ИН. ИОНА) ЮРЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1459,† 1477/1481)
сын Юрия Романовича; правитель Новосильско-Одоевского кн-ва (с 1455/59), 21.4.1459 заключил договор [совм. с князьями Фёдором и Василием Михайловичами, внуками белёвского кн. Василия Романовича (? – кон. 14 в.), старшего сына новосильского кн. Романа Семёновича] c Казимиром IV, от которого получил в держание в ВКЛ расположенные в Смоленской земле Местилово, Кцынь и Хвастовичи, в 1460‑х гг. продолжал служить Казимиру IV. Отчество князя Ивана Юрьевича известно из его договорной грамоты 1459 г. и записей в церковных книгах XV в. Покровского Доброго монастыря 15. Из посольских книг московско-литовских дипломатических сношений следует, что князь Семен Одоевский приходился ему родным братом 16. Следовательно, князь Лев Романович имел сыновей: Василия и Федора, а князь Юрий Романович имел сыновей: Ивана и Семена.
У тэксце пасольскіх прамоў Івана III канца XV ст. захавалася пасведчанне аб службе князёў Фёдара (Львовіча) Варатынскага, Івана і Сямёна (Юр’евічаў) Адоеўскіх і бялёўскіх князёў Васілю II яшчэ ў часы панавання Казіміра 17. У літоўска-адоеўскім дагаворы ад 21 красавiка 1459 г. літоўскі бок таксама прадстаўляў Казімір IV. Яго контрагентамі былі князь Іван Юр’евіч Адоеўскі з пляменнікамі – князямі Фёдарам і Васілём Міхайлавічамі Бялёўскімі 56.
Вслед за тем между князьями новосильского дома произошло некоторое перераспределение литовских «пожалований». В посольских книгах дипломатических сношений Москвы с Литвой в акте от 10 мая 1497 г. сохранилось свидетельство о том, что некогда Казимир «подавал» князю Ивану Юрьевичу Одоевскому, а по его смерти и его детям Михаилу и Федору Ивановичам «села Смоленского повету на имя Местилово, а Кцинь, а Хвостовичи» 18. На переговорах же о заключении московско-литовского договора о мире 1494 г. выяснилось, что деменскую волость Снопот и городеченскую волость Чернятичи держал князь Федор Иванович Одоевский, несмотря на то, что у князя Семена Федоровича Воротынского хранилась грамота Казимира о пожаловании Снопота и Городечны его отцу князю Федору Львовичу 19. Князь Иван Юрьевич со своими белёвскими племянниками называли себя «слугами» Казимира, подчеркивая, что еще накануне заключения договора 1459 г. служили Литве 20. Эта служба протекала без «пожалования» по «Витовтову докончанию». Примечательно, что переданные одоевскому князю Снопот и Чернятичи в источниках названы не самостоятельными, а подчиненными волостям князя Федора Львовича. Поэтому не исключено, что в период с 1442 по 1459 гг. в рамках единственного литовско-новосильского (по сути, литовско-воротынского) договора именно князь Федор Львович, как старший в роду, привлекал своих младших родичей к литовской службе. В таком случае в качестве вознаграждения он должен был давать им волости, с которых бы они служили Литве под его началом. Но как только князь Иван Юрьевич вступил в самостоятельные отношения с великим князем литовским, он стал претендовать на эту долю литовских землевладений своего воротынского родича. Во всяком случае, литовско-одоевский договор 1459 г. обеспечил возможность дополнительного дохода семейству князя Ивана Юрьевича на литовской службе независимо от семейства князя Федора Львовича. К волостям Кцину, Снопоту и Чернятичам князь Иван Юрьевич получил от Казимира Местилово и Хвастовичи. Позже территория литовских «пожалований» одоевским князьям значительно увеличилась 21.
Разделение договора 1427 г. на две ветви было обусловлено не столько политическим расколом в роду новосильских князей, сколько стремлением воротынских (в 1432 г.) и одоевских (в 1459 г.) князей персонифицировать литовские «пожалования» и распределять их внутри своих кланов. При этом, находясь на литовской службе, они продолжали выступать сообща.
Князь Іван Юр’евіч быў жывы яшчэ 14 сакавіка 1477 г. 22. Да пачатку 1481 г. яго самога і яго бялёўскіх пляменнікаў ужо не было сярод жывых.
В синодике московского Успенского собора сохранилась память князьям Одоевским: «князю Ивану Юрьевичу, во иноцех Ионе, и князю Семену Юрьевичу, и князю Феодору Ивановичу (имя приписано на полях) Одоевским»23.
По родословцам (Румянцевская редакция 1540‑х гг.) замужем за кем-то из братьев Юрьевичей была дочь князя Ярослава Оболенского, одного из представителей московской аристократии конца XV в.24 В иночестве — Иoнa. 25.
3/1. КН. СЕМЕН ЮРЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ (†1473)
служилый князь вел. князей литовских и вел. князей московских.
Незадолго до 14 августа 1427 г. между Витовтом с одной стороны и великим князем Юрием Романовичем Новосильским и Одоевским с другой был заключен договор. На стороне последнего выступали двое сыновей князья Иван и Семен Юрьевичи, а также воротынские племянники князья Василий и Федор Львовичи. На встрече с Витовтом присутствовала вдова князя Льва Романовича– княгиня Воротынская 26. С заключением договора князья новосильского дома по отношению к великому князю литовскому приобретали статус «служилых князей». Смысл этого статуса заключался в том, что они обязались служить великому князю литовскому за вознаграждение, которое могло выражаться, видимо, как в денежной форме, так и в наделении служилых князей административными должностями и землями, которые приносили бы им доход. С приобретенных в Литве земельных «пожалований» служилый князь в качестве налога должен был платить в литовскую казну «полетнее» (ежегодную дань). В исконную Новосильскую землю великий князь литовский обязался не вступаться. Первый новосильско-литовский договор предусматривал возможность его продления после смены власти в Литве или в Новосильско-Одоевском княжестве. С 1432 г. договоры удельных воротынских и удельных одоевских князей с Литвой стали заключаться независимо друг от друга «по Витовтову докончанию» 27.
Не позднее кон. 1450‑х гг. окончательно перешёл на службу к вел. князьям московским, имел чин слуги, У тэксце пасольскіх прамоў Івана III канца XV ст. захавалася пасведчанне аб службе князёў Фёдара (Львовіча) Варатынскага, Івана і Сямёна (Юр’евічаў) Адоеўскіх і бялёўскіх князёў Васілю II яшчэ ў часы панавання Казіміра, па словах Івана III, князь Сямён Адоеўскі служыў яму са сваёй вотчынай 28, а пасля яго смерці ягоныя дзеці ўспадкавалі яго палову Адоева 29.
Осенью 1473 г. «Любучане безвестно приидоша на князя Семена Одуевъского, он же бои постави с ними… и убиша ту князя Семена единого, а прочии же все здравии» 30. По убедительным аргументам А. В. Антонова, князю С. Ю. Одоевскому принадлежал Веприн, упомянутый «что за одоевскими князми» в духовной грамоте великого князя Ивана III 1503 г. и позже ставший основой Вепринского стана Алексинского уезда31. По писцовой книге и «Ландкарте Тульской провинции Алексинского уезда» 1739–1740 г. можно уточнить локализацию Вепринского стана. Он располагался в бассейне верхнего течения р. Черепети, главным образом, ее правого притока – р. Черепетки32. На севере Вепринский стан граничил с Любуцким станом «Калужской приписи» Алексинского уезда, а на западе и юге с Лихвинcким уездом, сформированным в 1560‑е годы из бывших владений князей Одоевских. Расположение Веприна на границе между волостями, тянувшими к Любуцку, и землями удела князей Одоевских помогает понять суть конфликта 1473 г. Очевидно, князь Семен Юрьевич захватил часть любуцкой волости Веприн.
В синодике московского Успенского собора сохранилась память князьям Одоевским: «князю Ивану Юрьевичу, во иноцех Ионе, и князю Семену Юрьевичу, и князю Феодору Ивановичу (имя приписано на полях) Одоевским»33.
По родословцам (Румянцевская редакция 1540‑х гг.) замужем за кем-то из братьев Юрьевичей была дочь князя Ярослава Оболенского, одного из представителей московской аристократии конца XV в.34
XVIII генерація від Рюрика
4/2. КН. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1481, +1488/1491)
преемник отца в качестве правителя Новосильско-Одоевского кн-ва. Осенью 1480 его владения и земли его родственников подверглись разорению ордынцами во время Стояния на Угре 1480, несмотря на то, что ранее О. содействовали проходу войск хана Ахмеда к верховьям Оки, 26 января 1481 г. князья М.И. и Ф.И. Одоевские и их троюродный племянник, князь И.В. Белевский, заключили договор о службе с королем Казимиром IV, очевидно, в связи со смертью отца князей Одоевских – Ивана Юрьевича [Шеков А.В. Политическая история и география Верховских княжеств. Середина XIII – середина XVI в. М., 2018, с. 230]. Вероятно, двор Болваничи с Белицкой волостью были пожалованы князьям Одоевским в связи с принятием их «у службу» в 1881 [РИБ, 1910, № 133, стб. 652, 653; ср.: Шеков А.В. Политическая история и география Верховских княжеств. Середина XIII – середина XVI в. М., 2018, с. 226]. Центр Белицкой волости локализован В.Н. Темушевым по д. Белик на р. Беличек (правый приток р. Стометь – правый приток р. Остер – левый приток р. Сож) [Темушев В. Н. На восточной границе Великого княжества Литовского. Середина XIV – первая половина XVI в. Тула, 2016, с. 18, карта 1]. Двор Болваничи находился на левом берегу р. Сож около современного с. Княжое, примерно, в 48 км к северо-западу от центра Белика [Любавский М.К. Областное деление и местное
управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. М., 1892., с. 276; Курмановский В.С. Территориальные структуры
центральных районов Смоленской земли в XI–XV веках. К постановке проблемы // Земли родной минувшая судьба… К юбилею А.Е. Леонтьева. М.,
2018. С. 127, 130, 134; Шеков А.В. Политическая история и география Верховских княжеств. Середина XIII – середина XVI в. М., 2018., карта 2] Однако в июне 1498 г. двор Болваничи и Белицкую волость (Белик) великий князь Александр Казимирович пожаловал смоленскому казначею князю Константину Федоровичу Крошинскому в наследственное владение [Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. М., 1892., с. 276, прил. № 2, с. I–II; Lietuvos Metrika, 2007, № 277, 278, p. 183–185]. Об этом мы узнаем из записей двух «листов» – известительного и жалованного, по А.И. Груше.35 21 июня в Вильно великий князь «казал в книги записати, што просил въ его милости» князь К.Ф. Крошинский названных владений, состав которых подробно описан. Из окончания акта следует, что ранее Болваничи и волость принадлежали князьям Михаилу и Федору Ивановичам Одоевским, которые уже скончались. «Нижли так, как господару его милости он (князь. – А. Ш.) поведал. И его милость тот двор Болваничи и Белик со всим дал и привилем своим то ему утвердил.36
Судя по описанию в «листе» от 21 июня 1498 г., к двору относились 13 «селец», названных по именам и фамилиям проживавших там крестьян. При дворе была дворная пашня, «немного» которой было дано четверым безземельным крестьянам. Кроме того, еще князь М.И. Одоевский «посадил» на дворной пашне двух конных слуг и кузнеца. Всего при дворе было пять конных слуг – мелких военно-служилых людей [Любавский М.К. Областное деление и местное
управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. М., 1892., с. 364]. Были и другие оброчные ремесленники: Янчик «з братьею» делали, вероятно, в год четыре колеса, Миколайко «з братьею» делали «ушатки» и ведра. К оброчным людям относились и крестьяне-бортники Иванковы дети Бабина, которые «заведают землю бортную болваницкую». В итоге указано, что всего «людей болваницких» было 24 человека. Хотя выше проживавший в сельце Мочалково крестьянин Мачалков определен как крепостной – «непохожий», эти 24 крестьянина и слуги названы вольными людьми, которые не платят «дачей и пошлин» [Lietuvos Metrika, 2007, № 277, p. 183–184].
Вероятно, к 24 вольным людям были отнесены 12 крестьян,
живших в отдельных сельцах, кроме Мачалкова, 4 безземельных крестьянина, получивших участки дворной пашни, 3 главы оброчных семей и 5 конных слуг. Очевидно не названный по имени кузнец «на пашне» не был учтен в этом подсчете. Состав населения Болваничей характерен для литовских великокняжеских дворов [Любавский, 1892, с. 315–316, 323, 331–333, 343–344, 354]. Управляющим двора был тиун. Здесь он жил в «сельце Яковлево, што был тивуном за пана Ивана Вяжевича» [Lietuvos Metrika, 2007, № 277, p. 184]. Из другого акта Метрики – пожалования с. Смолин Конец в Болваничах великокняжескому писарю Ивану
Семеновичу Сопеге в феврале 1496 г., к которому мы еще вернемся, узнаем, что до князей Одоевских при короле Казимире IV названным двором в качестве феода – «держания» – владел смоленский наместник Иван Вяжевич (1459–1466, 1469–1475 гг.) [РИБ, 1910, № 133, стб. 652–653; Urzędnicy, 2003, s. 50].
Вероятно, в семи сельцах Белицкой волости было семь
«тяглей» крепостных («непохожих») людей, шесть вольных людей, включая волостного администратора – «приказника», и двое конных слуг. Кроме Белика, Дертны и Пьянково, сельца названы по крестьянам «з братом» либо «з братаничи». «А с тых белицких людей посощина хоживала подлуг земли Смоленское обычая». Грошовая дань «со всих тых людей» составляла 5 коп и 11 грошей, то есть 311 грошей, «а меду три кади и два пуды» [Lietuvos Metrika, 2007, № 277, p. 184; Любавский, 1892, с. 354, 433–434, 482–483]. Еще восемь тяглых мест запустели, «а дани с них бывало три копы и десять грошей, а меду семъ кадей и два пуды». Из
них «Угрим москвитин держал две тягли – Вареховское а Михалево». Здесь же эти «тягли» названы селами: «И князь Федор Мезецкий тыи села был на себе увязал, и тыми разы тыи села зася к Болваничом привернуты» [Lietuvos Metrika, 2007, № 277, p. 184].
Из жалованного «листа» писарю И.С. Сопеге конца 1497 г.,
подтверждавшего права на приобретенные владения, узнаем, что упомянутый Угрим был слугой князя М. И. Одоевского. Князь «дал» Угриму сельцо Багриновское «в Болваницком повете». Однако последний, очевидно, уже после смерти братьев князей Одоевских «спустил» сельцо за долг смоленскому боярину Богдану Григорьевичу. Так как эта сделка была совершена без великокняжеского разрешения, то сельцо было возвращено под власть монарха и по просьбе И.С. Сопеги пожаловано Александром Казимировичем своему писарю «вечно и непорушно» [Lietuvos Metrika, 2007, № 243, p. 168].
Из других актов следует37, что боярин Мартин получил с. Смолин Конец в «держание» от смоленского наместника Ивана Вяжевича, когда тот владел Болваничами. После смерти последнего, когда двор был взят королем Казимиром IV «на себе», а затем отдан во владение князьям Одоевским, Мартин сохранил владение селом. Кроме того, князья «придали» боярину «землю данную з бобровыми гоны в Белицкой волости, на имя в Чепиничах», а также «пашни своее двора Болваницкого на имя Селищо, а к тому сеножать Юрцевскую» [РИБ, 1910, № 133, стб. 652; Lietuvos Metrika, 2007, № 243, p. 167]. В свою очередь, Чепиничи «ис трети держит чоловек, на имя Онофреец», уплачивавший Мартину «дани кадь меду и двадцать грошей» [РИБ, 1910, № 133, стб. 652]. В Смолином Конце было семь «служб» людей. Нахо-
дившийся «при старости» боярин, у которого не было жены и детей, передавался под пожизненную опеку И.С. Сопеги [РИБ, 1910, № 133, стб. 653; Lietuvos Metrika, 2007, № 243, p. 166–167] В списке князей и бояр Смоленской земли 1480‑х гг. упомянут лишь один Мартин – после Михайло и Олехно Вяжевичей с определением как «бискупий брат» [Lietuvos Metrika, 2004, p. 155; Кром М.М. Меж Русью и Литвой. 2‑е изд. М., 2010, с. 235]. Смоленским епископом тогда был Яким [РИБ, 1910, № 127, стб. 442–443; № 152, стб. 672–673; Lietuvos Metrika, 2004, № 127, p. 138; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy / Pod
red. A. Rachuby. T. 4. Warszawa, 2003, стб. 589–590; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy / Pod
red. A. Rachuby. T. 4. Warszawa, 2003., s. 50]. В апреле 1497 г. И.С. Сопега представлял
на великокняжеском суде интересы смоленского епископа Иосифа, где рассматривалось дело о владении садом, якобы купленным еще епископом Якимом [РИБ, 1910, № 152, стб. 672–674]. Поэтому вполне вероятно, что под опеку Ивана Семеновича был передан престарелый брат епископа. Пример
с боярином Мартином показывает, что вместе с землями под власть князей был передан боярский феод.
Завершая рассматривать грамоту 1498 г. князю К.Ф. Крошинскому, отметим, что князья М.И. и Ф.И. Одоевские вместе со своей матерью «отписали дани на церкви» из Белицкой волости – две кади меда от сельца Ворошиловых и копу, то есть 60, грошей за кадь меда от сельца Дертна [Lietuvos Metrika, 2007, № 277, p. 184]. Таким образом, в предоставленных им литовской властью владениях князья Одоевские имели право отчуждать часть доходов в пользу церкви и право передавать земли в условное владение без права распоряжения.
Печатка князя від 1481 року: в полі печатки рицар, в правиці тримає меч; ромбова, розмір 19х15 мм 38.
У 1520 г. кіеўскія паслы ўспаміналі, што ўвосень 1482 г. буйное літоўскае войска прыходзіла абараняць Кіеўскую зямлю ад нападу крымскіх татараў. У ім былі не толькі “kniaz Worotyński” і “kniaz Odojewski”, і нейкі “kniaz Kozielski” 39.
Да восені 1491 г. у родзе Адоеўскіх памёр старэйшы князь – Міхаіл Іванавіч. Апошні раз князь Міхаіл Іванавіч Адоеўскі ўпамінаецца жывым у акце ад 28 кастрычніка 1488 г. 40. Дакладна пра яго смерць можна меркаваць з літоўскага пасольства, складзенага 9 сакавіка 1492 г. У ім гаворыцца, што спадчыннікам адоеўскай вотчыны павінен быць князь Фёдар Іванавіч “по тому, какъ отец его и братъ его князь Михайло держали”. Князя Міхаіла Іванавіча ўжо не было на свеце, калі яго малодшы брат князь Фёдар Адоеўскі прыязджаў да Казіміра IV “бити челомъ о своихъ делехъ”. Казімір IV знаходзіўся ў Вялікім Княстве Літоўскім у лютым – красавіку 1490 г. і з верасня 1491 г. 41.
Упоминаются в синодике ризницы Троице-Сергиева монастыря42. Ниже
князя М.И. Одоевского был записан казначей Обросим, известный в начале 1490‑х гг. (АСЭИ. Т. 1. № 550.
С. 428).
5/2. КН. ФЁДОР ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1481, † 1494/1497)
У літоўска-адоеўскім дагаворы ад 26 студзеня 1481 г. контрагентамі Казіміра IV выступалі: князі Міхаіл і Фёдар Іванавічы Адоеўскія і іх пляменнік князь Іван Васільевіч Бялёўскі 43
Преемник и единственный наследник своего брата в качестве правителя Новосильско-Одоевского кн-ва (1483/88 – 1492), получил от Казимира IV расположенные в Смоленской земле Болвановичи, Горки, Городечскую вол., Снопоть, Тухачев, Холм, Чернятин, Шую, а также половину Городечны. В 1492 г. его двоюродные братья, князья Иван, Василий и Петр Семеновичи Одоевские, разорили его отчину, г. Одоев, похитили казну и увезли его мать, свою родную тетку.
Князь Фёдар Адоеўскі прыязджаў даКазіміра IV “бити челомъ о своихъ делехъ”. Казімір IV знаходзіўся ў Вялікім Княстве Літоўскім у лютым – красавіку 1490 г. і з верасня 1491 г. 44. Аднак у пасольскіх прамовах да Івана III, складзеных да 20 кастрычніка 1491 г., пра князя Фёдара Адоеўскага ён яшчэ не згадваў, хоць, напэўна, ужо тады ўзаемадачыненні князя Фёдара са стрыечнымі братамі Сямёнавічамі былі напружаныя. Значыць, князь Фёдар Адоеўскі пабываў у караля з канца кастрычніка 1491 г. да пачатку студзеня 1492 г. Потым ён павінен быў паехаць у Адоеў, увайсці ў спрэчку з адоеўскімі Сямёнавічамі і на пачатак сакавіка 1492 г. вярнуцца да Казіміра IV (ці паслаць да яго свайго баярына). На паездку туды і назад спатрэбілася б не менш як паўтара – два месяцы, асабліва з улікам таго, што князь Фёдар Адоеўскі быў ужо сталым чалавекам. Факт нядаўняга захопу яго вотчыны пацвярджаюць словы Івана III, накіраваныя Менглі-Гірэю 20 сакавіка 1492 г. 45.
Да восені 1491 г. у родзе Адоеўскіх памёр старэйшы князь – Міхаіл Іванавіч. У сувязі з гэтым у Адоеўскім удзеле адбылася спрэчка маскоўскіх слуг адоеўскіх Сямёнавічаў з літоўскім слугой князем Фёдарам Іванавічам Адоеўскім. Як толькі князь Фёдар Адоеўскі паехаў да Казіміра IV “по своим делам”, адоеўскія Сямёнавічы захапілі яго казну і занялі яго вотчыну, якая складала палову Адоева. Пры гэтым князь Іван Сямёнавіч стаў прэтэндаваць на “большое” (старэйшае) княжанне ў Адоеве. Як ні стараўся Казімір IV абараніць правы свайго слугі, але зрабіць гэтага не ўдалося 46. Гэтыя сваяцкія захопы ў сямействе навасільскіх князёў адбыліся па загадзе Івана III, пра што той наўпрост паведамляў свайму саюзніку крымскаму хану Менглі-Гірэю ў пасольскіх прамовах, складзеных да 20 сакавіка 1492 г. 47.
З удзельнікаў літоўска-адоеўскіх дагавораў на літоўскай службе застаўся толькі князь Фёдар Іванавіч Адоеўскі, які атрымаў у Смаленскім павеце горад Дарагабуж з валасцямі от Казимира IV в качестве компенсации. У лістападзе 1493 г. Аляксандр Казіміравіч з літоўскай Радай прынялі рашэнне аб вядзенні перамоваў аб міры з Масквой. Паслам быў дадзены наказ пра патрабаванні літоўскага боку і пра магчымыя саступкі Маскве. Між іншым ад Івана III патрабавалі, каб у новым маскоўска-літоўскім дагаворы Вялікае Княства Цвярское было пастаўлена гэтак жа, як і ў дагаворы 1449 г. Казіміра IV з Васілём II. Калі ж Іван III не захоча адмовіцца ад Цверы, то жадалі,.каб ён адступіўся ад Казельска, мязецкіх (мяшчоўскіх) князёў і яшчэ ад шэрагу валасцей. Таксама патрабавалі, каб “kniazei nowosielskich wsich, kotoryie zdawna służyli k welikomu kniazstwu Litowskomu, a tych kniazei i z ich otczynami postupiłsia hosudaru naszomu, welikomu kniaziu Alexandru, po dawnomu. A iestli kniaż welikiy moskowskiy k tomu ne wschoczet prystupiti, ino panowie posłowie maiut.k tomu wiesti, aby tych kniazei postawleno podłuh staroho dokonczania otca ieho” 48.
Лёс навасільскіх князёў вырашыўся на перамовах 30 студзеня 1494 г. Адносна іх далейшай службы літоўскім паслам так і не ўдалося дамагчыся ад Івана III ніякіх саступак 49. Вярнуць ранейшы статус Цверы яны таксама не змаглі, як і не змаглі адстаяць правы літоўскага боку на Казельск 50. Па маскоўска-літоўскім дагаворы ад 5 лютага 1494 г. усе навасільскія князі (акрамя князя Фёдара Іванавіча Адоеўскага) з іх вотчынамі былі замацаваны на маскоўскай службе. Таксама за Масквой быў замацаваны і Казельск 51.
Князь Фёдар Іванавіч Адоеўскі валодаў Дарагабужам яшчэ 17 сакавіка 1494 г. 52. Аднак 16 чэрвеня 1494 г. Дарагабуж быў передадзены іншаму ўладальніку 53. Не выключана, што ён памёр да таго часу. З лютага 1496 г. пераафармляліся таксама іншыя раней літоўскія ўладанні адоеўскіх Іванавічаў 54. Пра яго канчыну ясна сказана ў прамовах пасольства ВКЛ, якое прыбыло ў Маскву 13 чэрвеня 1497 г. 55.
В синодике московского Успенского собора сохранилась память князьям Одоевским: «князю Ивану Юрьевичу, во иноцех Ионе, и князю Семену Юрьевичу, и князю Феодору Ивановичу (имя приписано на полях) Одоевским»56.
6/3. КН. ИВАН СЕМЁНОВИЧ СУХОРУК ОДОЕВСКИЙ (1485,1508)
— сын князя Семена Юрьевича Одоевского 57, вместе с братьями перешел от Литвы на московскую службу; благодаря поддержке великого князя Иоанна III он постоянно и успешно вел борьбу с мелкими удельными князьями, служилыми Литве. В 1485 году литовские послы жаловались Иоанну III, что Одоевские князья, «князь Иван з братьею» притесняют служилых Литве князей Мезецких. Иоанн III отвечал, что Мезецкие князья сами нападали и чинили обиды Одоевским князьям и что последние только оборонялись, Одоевские князья даже будто бы жаловались в Москву на эти притеснения Мезецких князей. В 1488 вместе с родными братьями Василием и Петром, перемышльским кн. И. М. Воротынским и моск. детьми боярскими разорил в верховьях р. Ока пограничные вотчины служивших в ВКЛ князей Мезецких, Глинских, Крошинских и Мосальских,В 1492 году князь Иван Семенович, владевший половиной Одоевского удела, начал борьбу из-за старшинства в роду со своим двоюродным братом, князем Феодором Ивановичем, владевшим вместе со своим братом, князем Михаилом, другой половиной Одоевского удела и державшим сторону Литвы. Князь Иван напал на удел Федора в его отсутствие, захватил в плен его мать, пожег и пограбил его волости, некоторые волости привел к присяге себе и забрал всю казну князя Федора. Князь Федор Иванович жаловался литовскому великому князю, который и прислал посла в Москву с жалобой Иоанну III на своеволие его слуги. Но Иоанн III снова заступился за своего служилого князя: он заявил, что в Одоеве происходят споры из-за старшинства и предлагал дать Одоевским князьям возможность сговориться, а если не сговорятся, то послать уполномоченных от Москвы и Литвы, которые бы и разобрались во всем этом деле. Таким образом, князь Иван Семенович снова остался безнаказанным и даже получил возможность продолжать свои набеги на область соперника. До нас не дошло известий, чем закончилась эта борьба двух линий княжеского рода Одоевских, но, по-видимому, она была в пользу князя Ивана и его братьев и весь удел перешел в их руки, так как мы знаем, что по миру 1494 года весь Одоевский удел отошел к Москве, и так как по родословным видно, что князь Федор Иванович и его брат князь Михаил Иванович умерли бездетными. Не менее ревностно, чем боролся с Литвой, князь Иван Семенович служил и великому князю Иоанну III: в 1495 году он был воеводой в Мценске, в 1497 году мы находим его первым воеводой передового полка во Владимире, в 1499 году он вместе с Перемышльскими князьями и некоторыми другими воеводами разбил и прогнал из-под Козельска сделавших нападение на него татар, в декабре 1501 года он участвовал в качестве первого воеводы передового полка в походе на Литву и Лифляндию под начальством князя Семена Стародубского, в 1507 году он снова участвовал в походе на Литву из Северской земли вторым воеводой большого полка и, наконец, в 1508 2‑й воевода большого полка в войсках кн. Василия Ивановича Шемячича, посланных в ВКЛ на выручку кн. М. Л. Глинскому. После этого дальнейших известий о князе Иване Семеновиче до нас не дошло, и год его смерти в точности не известен.
Владел частью г. Одоева 58.
Ж., КСЕНИЯ.
7/3. КН. ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ ШВИХ ОДОЕВСКИЙ (1487,-1534)
— сын князя Семена Юрьевича Одоевского, боярин и воевода (1505); участник рус.-литов. войн 1492–1494 и 1500-03 59. Вместе с своими братьями перешел на службу к Москве, пользовался расположением великого князя Иоанна III и в 1497 г. был наместником в Муроме.
С его именем и именем его брата, князя Ивана Семеновича, постоянно связаны ссоры и несогласия с литовским великим князем и с удельными князьями, служилыми Литве. В 1485 году мы встречаем жалобу литовских послов на то, что Одоевские князья — «князь Иван з братьею» — притесняют служилых Литве князей Мезецких; а в 1492 году он принимал участие в борьбе за старшинство своего брата, князя Ивана, со своим же двоюродным братом князем Федором Ивановичем, тянувшим сторону Литвы. Князь Василии Семенович принял сторону своего родного брата и помогал ему в борьбе с князем Федором. С 1499 года в качестве служилого московского князя, кн. Одоевский участвовал почти во всех походах вел. князя Иоанна III-го: в 1499 году он, вместе с князьями Перемышльскими, разбил татар, явившихся под Козельск, в декабре 1502 года участвовал в походе на Литву и Лифляндию воеводой правой руки под начальством князя Семена Ивановича Стародубского, в 1506 г. он получил сан боярина и связанное с ним участие в боярской думе. В 1507 году князь Василии Семенович был воеводой в Ржевце у Белева, откуда ходил на Стародуб, потом мы его снова видим воеводой в Белеве. В августе этого же года, когда явились под Белев и Одоев татары, князь Василий Семенович вместе с другими воеводами выступил против них, нагнал их у Оки, здесь разбил и гнал до речки Рыбницы. Наместник в Вел. Луках (1512), откуда двинулся вместе с подчинёнными ему людьми и вошёл в состав большого полка войска, направленного под Браславль в Полоцкой земле во время рус.-литов. войны 1512–22В 1513 году Одоевский участвовал в походе великого князя Василия III под Смоленск воеводой большого полка, в 1514 году был воеводой на восточной границе Московского Государства, для хранения на случай нашествия казанских татар, потом был воеводой на юге и, услышав о нашествии крымцев, сначала посылал против них отдельные отряды, а потом и сам явился и выгнал их из московских пределов. В 1516 и 1517 годах мы находим князя Василия Семеновича воеводой на Вошане, в авг. 1517 вместе с кн. И. М. Воротынским разгромил под Тулой и в Беспутском стане крымских татар, в 1520 году он был в Серпухове и на Угре, в июне 1521 году командовал рус. войсками на р. Угра, в 1522 — снова в Серпухове; командовал рус. войсками в Коломне (лето 1527), Ростиславле (осень 1527), 5.9.1527 был одним из организаторов разгрома на р. Ока, под Ростиславлем, войска крымского калги Ислам-Гирея, В 1529 году Одоевский был воеводой войск, расположенных на Оке, отражал нападение крымских татар на эти области и выгонял крымцев из России, отбивая пленных, которых татары успели взять в южных поселениях Московского государства. В 1533 году Одоевский был воеводой сперва в Одоеве, а потом в Новгороде Северском; в 1534 году он был воеводой в Боровске и здесь в этом же году и умер.
За переход на рус. службу получил от Ивана III Васильевича земли в Можайском у. Владел частью г. Одоева (Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 133). В 1504 г. владел деревней Шапкино на границе Можайского и Звенигородского уездов 60.
8/3. КН. ПЁТР СЕМЁНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (?-1547)
— сын князя Семена Юрьевича Одоевского; воевода, участник рус.-литов. войн 1492–94 и 1507-08 61. Вместе с братьями отделился от Литвы, перешел на московскую службу и, состоя в московских войсках, совершил ряд походов против Литвы и татар; В 1492 г. вместе с братьями участвовал в разграблении Одоева. в 1492 году он был послан к Смоленску воеводой правой руки, в 1499 году, вместе с перемышльскими князьями и другими воеводами, ходил против татар, явившихся в Козельск и участвовал в битве с ними. В 1507 году он снова участвовал в походе к Смоленску, в 1508 году участвовал в опустошении Литвы под начальством воеводы князя Холмского, в 1509 году первым воеводой правой руки ходил на помощь к Дорогобужу, осажденному литовцами. В 1522 и 1523 годах Одоевский был воеводой сторожевого полка за Окой. После этого известия о нем прекращаются и год его смерти в точности неизвестен.
До сент. – дек. 1525 его часть в Старом Одоеве перешла в руки кн. И. М. Воротынского.
XIX генерація від Рюрика
9/6. КН. ФЁДОР ИВАНОВИЧ БОЛЬШОЙ ОДОЕВСКИЙ
згаданий тільки у родоводах, син Івана Семеновича Одоєвського 62.
10/6. КН. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ
згаданий тільки у родоводах, син Івана Семеновича Одоєвського 63.
11/6. КН. ФЁДОР ИВАНОВИЧ МЕНЬШОЙ ОДОЕВСКИЙ (?-1547)
— служилый князь, боярин, воевода, член Боярской думы и наместник Муромский. сын князя Ивана Семеновича Сухорука 64. Упоминается с 1512 года, когда принимал участие в отражении крымцев, явившихся в этом году под Козельск под начальством Ширинских князей. В 1520 г. голова в войсках на Угре, в 1529 г. воевода в Туле, в 1531 г. — воевода большого полка в Одоеве, воевода передового полка в 1535 и 1547 гг. в Коломне.
Воевода полка правой руки в войске кн. И. М. Воротынского (1512 и нач. 1531), голова в полках на р. Угра (июнь 1521), 1‑й воевода в Туле (1527, 1529, 1533), Одоеве (1530), 1‑й воевода большого полка в Одоеве (с июля 1531), затем там же 2‑й воевода большого полка (с 17.8.1531), 1‑й воевода передового полка в Козельске (янв. 1532), полка у Девичьего поля под Коломной (июль 1532), затем войска на р. Осётр, передового полка в Туле (с мая 1533), войска в Туле (с авг. 1533), полка левой руки в Коломне (с июля 1535), наместник в Муроме (июль 1537–1538), в июне 1539 назначен 1‑м воеводой сторожевого полка в рати кн. В. А. Микулинского (из рода Микулинских) в Коломне, но из-за местничества с ним был отставлен, 1‑й воевода большого полка в рати на р. Угра, воевода в Елатьме (1544), 1‑й воевода большого полка в Калуге (с июля 1544); в 1547 году — воеводой в Коломне, для хранения от нашествия крымцев, откуда он был переведен в Каширу, где в этом году на воеводстве и умер.
12/6. КН. РОМАН ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (?-1552)
— служилый князь, боярин, воевода, член Боярской думы и наместник Рязанский.
2‑й воевода полка правой руки в войске кн. И. М. Воротынского (1512), 1‑й воевода в Коломне (июль 1527 и авг. 1528), воевода под Окатовым (лето 1530), 1‑й воевода полка правой руки в Одоеве и Серпухове в войсках кн. Ф. И. Одоевского и кн. Воротынского (июль 1531–1532), 2‑й воевода полка правой руки в Козельске (с янв. 1532), 1‑й воевода на Бобрике близ Белёва (май – лето 1533), 1‑й воевода сторожевого полка (июль 1534), 2‑й воевода полка левой руки (июль 1535) в Коломне, вместе с И. И. Хабаровым-Симским отличился во время разгрома на р. Ока крымских татар, напавших на Рязанскую землю (конец авг. 1535), 1‑й воевода полка левой руки в том же войске (осень 1535, с 26.7.1536), в янв. 1537 направлен из Владимира с полком для отражения набега крымских татар на Муром и Нижний Новгород, затем 2‑й воевода полка правой руки в Коломне, участник подавления выступления старицкого кн. Андрея Ивановича (1537), 1‑й воевода передового полка во Владимире (лето 1537), затем 2‑й воевода передового полка в сборном войске для отражения набега крымских татар (лето – осень 1537), 1‑й воевода полка левой руки в Коломне (с авг. 1538), 1‑й воевода в Одоеве (1539), Серпухове (июль 1540), Калуге (авг. 1541), вместе с И. П. Фёдоровым был послан с ратью на р. Угра для отражения набега крымских татар во главе с ханом Сагиб-Гиреем I, однако к общему сбору войск на р. Ока прибыть не успел (1541). Упоминается в марте 1542 г. в списке князей и детей боярских, которые у государя в думе не живут, но были при приеме литовских послов (Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 147). С приходом к управлению Рус. гос-вом князей Шуйских был отставлен от службы.
13/7. КН. СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ
Служилый князь. В мае 1533 г. воевода в Новгороде Северском, затем во главе большого полка в Туле. В мае 1534 г. воевода в Новгороде Северском. В июне 1543 г. воевода в Серпухове (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 238, 244, 307, 307).
Ж. АННА (ИН.АНИСЬЯ). 65.
14/7. КНЯЖНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ОДОЕВСКАЯ
М., ПЁТР ИВАНОВИЧ ГОЛОВИН, Государев казначей. 66
XX генерація від Рюрика
15/12. КНЯЗЬ НИКИТА РОМАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (?-1573)
— служилый князь, рус. гос. и воен. деятель, боярин (с 1571). младший сын боярина, князя Р. Ивановича Одоевского (умер в 1536 г.) и неизвестной; князь, боярин. Из Черниговских Рюриковичей. О дате и месте его рождения сведений нет. Впервые упоминается в сентябре 1547 как участник свадебных торжеств вел. кн. Юрия Васильевича и княжны Ульяны Дмитриевны (урождённой Палецкой); находится «у постели» и «в мыльне», сидел на княжом месте 67.
Владел частью Одоева, Перемышля на р. Ока, а также Лихвином (совм. с кн. Д. С. Одоевским). С включением Лихвина с уездом в опричнину в 1565, вероятно, утратил на него владельческие права. По сведениям кн. А. М. Курбского, принадлежал к числу тех рус. князей, которые «были на своих уделах и велие отчины под собою имели; а колико тысящь с них не чту воинства было слуг их». В Дворовой тетради из Служилых князей 68. В воскресенье 28 апреля 1555 г. царь Иван Грозный выдает его сестру Евдокию замуж за князя Владимира Андреевича Старицкого. В нач. 1559 направлен (вместе с И. Б. Блудовым) в погоню за крымскими татарами к р. Северский Донец, обнаружил покинутую калгой Мухаммед-Гиреем стоянку со множеством падших лошадей и верблюдов. В Полоцком походе 1562/63 г. спал в стане государя, прибран в ясаулы 69. В 1565–1569 гг. входил в Земский двор. Прибыльный воевода в полку правой руки в войске в Коломне летом 1565 г. В сентябре 1565 г. воевода в Дедилове. В 1566/67 г. воевода в Почепе. В апреле 1569 г. воевода в Донкове (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 221, 222, 225, 229, 237, 242, 247, 250, 319; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 197). 12 апреля 1566 г. с боярами поручился в 15 тыс. руб. по князе М. И. Воротынском в его верности (Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 57). Дворянин 1‑й статьи на Земском соборе 25 июня–2 июля 1566 г. 70. Вошел в Опричнину в 1570 г. Первый воевода полка правой руки в опричном разряде в Тарусе в сентябре 1570 г. Отличился при отражении прорыва крымских татар на Сенькине броде (1571). Боярин в мае 1571 г. 71. 24 мая-31 августа 1571 г., будучи опричником, с думными лицами поручился по князе И. Ф. Мстиславском в его верности в 20 тыс. руб. (Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 64). В дек. 1571 – янв. 1572 сопровождал царя в поездке в Новгород. В январе 1572 г. боярин, участвовал в переговорах с шведскими послами в Москве 72. 2‑й воевода сторожевого полка в походе на шведов в Ливонию (весна 1572). Командуя полком правой руки, отличился в сражении «на Оке-реке в верх Нары» (28 июля). В конце весны этого же года ведет местнический спор с князем Михаилом Ивановичем Воротынским. В сент. 1572 О. было поручено собирать войска в Муроме и Нижнем Новгороде, с помощью которых он подавил восстание против рус. администрации горной и луговой черемисы (зима 1572/73). 15.4.1573 назначен 1‑м воеводой полка правой руки в Тарусу, но уже в мае попал в опалу вместе с прочими руководителями береговой службы на р. Ока – кн. М. И. Воротынским и М. Я. Морозовым (из рода Морозовых), которые обвинялись якобы в покушении на жизнь царя и тайных сношениях с крымским ханом Девлет-Гиреем I. (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 335, 341). В июле 1573 г. кн. Михаила Ивановича Воротынского постигла опала, по приказу Ивана Грозного его пытали, а затем сослали на Белоозеро, по дороге он умер (Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 476, 477). «Потомъ убиены славный между княжаты рускими Михаилъ Воротынской и Микита, княжа Одоевской, сродны его, со младенчики и дѣтками своими, единъ аки седми лѣт, а други мнѣйший, и со женою его. Всеродне погубленно ихъ, глаголютъ. Его же была сестра, предреченная Евдокия святая, за братомъ царевым Владимеромъ. А что же сему за вина была княжати Воротынскому? Негли тая точию: егда по сожжению великого славного мѣста Московского многонародного от перекопского царя и по спустошению умиленомъ и жалостномъ ко слышанию руские земли от бѣзбожныхъ варъваровъ, аки год единъ спустя той же царь перекопский, хотяще уже до конца спустошити землю оную и самого того князя великого выгнати из царства его, и поиде яко левъ-кровоядецъ, рыкаетъ, розиня лютую пащену на пожрение християнъ со всеми силами своими бусурманскими. Услышав же сие, наше чюдо забѣжалъ пред нимъ сто и двадесят миль с Москвы аже в Новъгород Великий, а того Михаила Воротынского поставил с войском и, яко могучи, земли оныя спустошения и окоянныя бронити повелѣл. Онъ же, яко муж крѣпки и мужестъвеной, в полкоустроениях зѣло искусны, с тѣм такъ силнымъ зверемъ бусурманскимъ битву великую сведе. Не далъ ему распростертися, а не на мнѣ воевати убогихъ християнъ, но бияшеся крѣпце зѣло с нимъ, и глаголютъ, колко дней бран она пребывала. И поможе Богъ християномъ благоумного мужа полкоустроением, и падоша от воинства християнского бусурманские полки, и самого царя сынове два, глаголютъ, убиени, адин живъ изыманъ на той-то битве, царь же сам едва в Орду утече, а хоругвей великихъ бусурманъскихъ и шатровъ своихъ отбѣжал в нощи. На той же битве и гетмана его, славного кровопийцу християнского, Дивую-мурзу изымано жива. И всехъ тѣхъ, яко гетмана и сына царева, тако и хоруговъ царскую и шатры его послал до нашего хороняки и бѣгуна, храбраго же и прелютаго на своихъ единоплемянныхъ и единоязычныхъ, не противящихся ему. Что же воздалъ за сию ему службу? Послушай, молю, прилѣжно пригорчайшия тоя и жалостные ко слышанию трагедии. Аки лѣто едино потом спустя, оного побѣдоносца и обранителя своего и всеа руские земли изымати и связанна привести и предъ собою поставити повелѣл. И обрѣтши единого раба его, окрадшего того господина своего, — а мню, наученъ от него, бо еще тѣ княжата были на своихъ уделѣхъ и велия отчины под собою имѣли, околико тысящъ с нихъ по чту воинства было слугъ ихъ, имже онъ, зазречи, того ради губилъ ихъ — и рече ему: «Се, на тя свидѣтелствуетъ слуга твой, иже мя еси хотѣлъ счеровати и добывал еси на меня бабъ шепчющихъ». Онъ же, яко княжа от младости своея святы, отвещал: «Не научихся, о царю, и не навыкохъ от прородителѣй своих чароватъ и в бесовство верити, но Бога единого хвалити и в Троице славимаго, и тебѣ, цареви, государю своему, служити верне. А сей клеветъникъ мой есть рабъ и утече от меня, окравши мя. Не подобаетъ ти сему верити и не свидѣтелства от такова принимати, яко от злодѣя и от предателя моего, лжеклевещущаго на мя». Онъ же абие повелѣ связана, положа на древо между двемя огни, жещи мужа в роде по сих же, в разумѣ и в дѣлехъ насвѣтлѣйшего. И притекша глаголютъ самого, яко началного када к катом, мучищамъ победоносца и подгребающе углие горяще жезломъ своимъ проклятым пот тѣло его святое. Такожде и предреченного Одоевского Никиту мучити различне повелѣл, ово срачицу его, пронзанувши в перси его, тамо и овамо торгати; той же в таковыхъ абия мученияхъ скончался. Оного же преодолѣтеля славного; смучена и изжена огнемъ неповине, наполы мертва и едва дышуща, в темницу на Бѣлое озеро повѣсти повелѣлъ. И отвезенъ аки три мили, с того прелютаго пути на путь прохладны и радостны небесного возхождения — ко Христу своему отиде. О мужу налѣпший и накрѣпчайши и многого разума исполнены! Велия и преславная суть память твоя блаженная! Аще негли недостаточна во оной, глаголю, варварской землѣ, в томъ нашемъ неблагородномъ отечествѣ, но здѣ и вездѣ, мню, в чюждих странахъ паче, нежели тамо, преславнѣшая, не токмо во християнскихъ предѣлехъ, но у главныхъ бусурмановъ, сирѣчь у турковъ, понеже немало от турецкого войска на той-то предреченой битве тогда быша. Наипаче же ат Магмета-паши великого двора мнози быша на помощъ послани перекопскому цареви, и за твоим благоразумиемъ все изчезоша, и не возвратился, глаголютъ, ни единъ в Констянтинополь. И что глаголю о отвоей славѣ, на земли сущей? Но и на небеси, у ангелского царя, преславна быша память твоя, яко сущаго мученика и побѣдоносца, яко за оную пресвѣтлую побѣду надъ бусурманы, еяже произвел еси и поставил мужеством храбрости своея, побѣду, обраняющи християнски род. Но и паче же сподобился еси мзду премногую получити, еже пострадал еси неповиннѣ от оного кровопийцы, и сподобился еси со всѣми оными великими мученики венцовъ от Христа Бога нашего во царьствию его, яже за его овцы, супротив волку бусурманскому, много от младости своей храбровствовал, аже без малы до шездесятого лѣта» 73.
Князья Никита и Данила владели Лихвинским уделом с 1540‑х гг. до 1563/1564 г. По мнению А. В. Антонова, Иван Грозный к 1563/1564 г. обменял у князя Никиты его жеребий в Лихвинском уделе на какие-то земли в Кашинском уезде, о чем есть свидетельство в духовной царя Ивана Васильевича 1572 г. 74. С включением Лихвина с уездом в опричнину в январе 1565 г., вероятно, утратил на него свои княжеские права 75. В Кинельском стане Переславского уезда у княгини старицы Феодоры, вдовы князя Н. Р. Одоевского, в 1592–1593 упоминалась деревня Васильево Посниково (40 четвертей земли), вероятно, доставшаяся ей от мужа 76.
10 октября 1590 г. вдова князя Н. Р. Одоевского, в иночестве Феодора, внесла в Троице-Сергиев монастырь для поминания мужа 100 рублей 77. В синодик опальных Ивана Грозного имя князя Н. Р. Одоевского не было включено по приказу царя. Члены семьи не смирились с царским приговором и внесли его имя для поминания в синодик как невинно «убиенного».
Ж., ВАРВАРА;
Дети: Михаила (умер после апреля 1589 г.), Ивана Большого (умер 7 марта 1616 г.), Ивана Меньшого (умер 9 марта 1629 г.) и Евдокию (супругу воеводы и князя Ивана Михайловича Елецкого-Селезня (из Черниговских Рюриковичей; умер после 1585 г.), погребена в Троице-Сергиевом монастыре).
16/12. КНЖ. ЕВДОКИЯ РОМАНОВНА ОДОЕВСКАЯ († 9.IX.1569)
Отравлена вместе с мужем. По приказанию и в присутствии Ивана Грозного она с мужем принуждена была выпить яд; кроме них тут же отравлены были двое малолетних сына и мать её мужа — старица Ефросинья – и вся их прислуга.
княгиня из рода Одоевских, вторая жена удельного старицкого князя Владимира Андреевича. Дочь воеводы Романа Одоевского. 28 апреля 1555 года стала женой князя Владимира Старицкого, двоюродного брата царя Ивана IV. Пострадала вместе с мужем в ходе опричных репрессий Ивана Грозного. По сообщению Генриха Штадена «великий князь открыто опоил отравой князя Володимира Андреевича; а женщин велел раздеть донага и позорно расстрелять стрельцам».[1] По сообщению Пискаревского летописеца начала XVII века: «…заехал князь велики на ям на Богону и тут его опоил зелием и со княгинею и з дочерию большею. А сына князя Василия и меньшую дочь пощадил».[2] Версию отравления княгини Евдокии вместе с мужем поддерживает и историк Н. М. Карамзин: … супруга его, Евдокия (родом Княжна Одоевская), умная, добродетельная — видя, что нет спасения, нет жалости в сердце губителя — отвратила лице свое от Иоанна, осушила слезы и с твердостию сказала мужу: «Не мы себя, но мучитель отравляет нас: лучше принять смерть от Царя, нежели от палача». Владимир простился с супругою, благословил детей и выпил яд: за ним Евдокия и сыновья.[3]
Евдокия приходилась двоюродной сестрой князю Андрею Курбскому. В своих письмах к царяю Ивану IV князь Андрей писал: «сестру мою силой от меня взял и отдал за того брата своего».[4]. Также в своей «Истории о великом князе Московском» Андрей Курбский сообщает: тогда же повелел он расстрелять из ружей жену брата своего Евдокию, княжну Одоевскую, тоже воистину святую и кроткую, в Священном Писании и божественном пении искусную, а с нею двух младенцев, сыновей брата, от нее рожденных; один — Василий — десяти лет, а другой еще моложе.[5]
Евдокия была погребена в Вознесенском соборе Московского Кремля.[6] В 1930 году останки перенесли в подвальную палату Архангельского собора.
М., 28.04.1555, КН. ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ СТАРИЦКИЙ. Его первая жена (с 1550 г.) — Евдокия Александровна Нагая;
17/12. КНЖ. АННА РОМАНОВНА ОДОЕВСКАЯ (* 1530‑е)
М., КН. БОРИС ИВАНОВИЧ МЕЗЕЦКИЙ, * 1‑я треть XVI в.
18/13. КН. МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ
В 1559 г. был первым воеводой сторожевого полка на Туле. Убит своим братом князем Федором Семеновичем 78.
19/13. КН. ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ
Убил брата своего кн. Михаила 79.
20/13. КН. ДАНИЛО СЕМЕНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1543,† 1562)
первый сын Семена Васильевича Швихова 80. В Дворовой тетради из Служилых князей (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 117). В 1550г. воевода в Мценске. В апреле 1551 г. воевода в Козельске 81. В июле 1555 г. воевода на Угре. В июле 1555 г. в царском войске из Коломны к Туле голова у царя в стане в сторожах. Осенью 1555 г. воевода на р. Угре (левом притоке р. Оки) 82. В июне 1556 г. в разряде царского похода в Серпухов голова в царском стане в сторожах. В июле 1556 г. воевода на Угре. В 1556/57 г., 1557/58 г. воевода в Болхове. В июне 1558 г. в Калуге командовал полком правой руки. В 1557/58 г. в войске из Мценска возглавил большой полк. В 1558/59 г. воевода в Болхове. В 1560 году по вестям о нашествии крымских татар был воеводой в Туле против «Дивья мурзы» и «воеводы Дивья дошли, а дела с ним не поставили». По роспуске воевод Одоевский был снова назначен в Болхов. В 1561/62 году он был отправлен против татар в Серпухов и оставлен в этом городе первым воеводой, когда другие воеводы отправились дальше к Мценску 83. В 1562/63 г. в Полоцком походе спал в стане государя, затем голова в становых сторожах из спальников, прибран в ясаулы 84. После этого известия об Одоевском прекращаются и год смерти его неизвестен.
Князья Данила и Никита Одоевские в 1560‑х гг. владели землями в Лихвинском уезде, селом Доброе (Добренское) с деревнями и починками, деревнями Букреево и Машковичи, озерами Святого и Долгого и пр., которые были переданы Покровскому Доброму монастырю. 3 июля 1543 г. пожаловал попа Георгиевской церкви деревней Федора Резанова с починками и угодьями в бассейне р. Черепети в Черепецком стане Лихвинского уезда. После смерти князя Данилы его выморочная доля Лихвинского удела, вероятно, была отписана на царя Ивана Грозного 85.
Известен как основатель в Лихвине Афанасьевского девичьего монастыря, существовавшего до начала XVIII в. В этом монастыре было две настоятельницы из рода князей Одоевских: в 1625 г. старица Аполлинария и в 1685 году игуменья Матрона.
Ж., АФАНАСИЯ (ИН.АПОЛИНАРИЯ) (1558,† 27.X.1624).
XXI генерація від Рюрика
21/15. КН. МИХАИЛ НИКИТИЧ ОДОЕВСКИЙ (1574,† 1590,Калуга)
— сын боярина князя Никиты Романовича; служилый князь, вотчинник Галич‑у 86.
Упоминается с 1580 года, когда в апреле – мае был назначен воеводой сторожевого полка в Коломне 87; здесь он пробыл 1581 год и в сентябре 1582 года был переведен в Каширу первым воеводой левой руки. В 1584 году Одоевский был сперва в Коломне, а потом в Туле; 1585.02. <на околничем> при приеме польск.посла Лукаша Сапеги. В 1585 году на случай нападения татар он стоял на берегу Оки до сентября, когда был отпущен со службы, но уже летом следующего 1586 года Одоевский снова был назначен был воеводой к Оке в Коломну, участвовал в поражении крымцев у Оки и за отличие в этом сражении получил золотой. В мае 1587 года Одоевский снова был на берегу Оки у Серпухова под начальством князя Ивана Михайловича Глинского для охраны московских окраин от нападения татар; в 1588 году он был одним из воевод в Тарусе. В 1588 г. направлен в Псков первым воеводой. На службу он не поехал, так как вступил в местнический спор с князем И. В. Голицыным, за что по приказу царя Федора Иоанновича был посажен в тюрьму в Алексине 88. В 1589 году был сперва воеводой в Серпухове, а потом в Алексине. Служилый князь в 1588/89 гг. 89.
В 1590 году князь М. Н. Одоевский был воеводой в Пскове, где в этом году и умер.
22/15. КНЯЗЬ ИВАН НИКИТИЧ БОЛЬШОЙ МНИХА ОДОЕВСКИЙ (* ...., 1574,† 07.03.1616, †Троицк.Серг.м‑рь)
— боярин и воевода, сын боярина князя Никиты Романовича Одоевского 90.
Упоминается с 26 октября, 1588 года, когда во время торжественного царского обеда он, в чине стольника «смотрел в большой государев стол» 91. В 1590 году, когда началась война с Швецией, сопровождал царя Федора Иоанновича в походе в Финляндию в звании рынды при государевом саадаке 92. В том же году князь Иван Никитич был послан к Оке смотреть боярских детей в расположенных там войсках. В 1591 году он участвовал в отражении от Москвы крымских татар, отличился в этом походе и получил в награду золотой, затем все остальное время царствования Федора Иоанновича находился при дворе, исправляя обязанности рынды при приемах послов или, по званию стольника, участвуя в церемониях торжественных царских обедов. 1597, мая 22, стольник, участвовал в церемонии приема посла Австрийскаго императора 93. В 1598 году Одоевский был на соборе об избрании на царство Бориса Годунова, подписался под соборной грамотой и в этом же году участвовал в походе нового царя против крымских татар, сделавших в этом году набег под самую Москву; лотом в 1001 году он был послан осматривать войска, расположенные на южной окраине Московского Государства в защиту от внезапного нападения крымцев: в Туле осматривал большой полк, в Крапивне — правую руку, а в Дедилове передовой полк. После этого у нас не имеется известий об Одоевском до 1606 года, когда мы находим его в чине свадьбы Лжедимитрия. В этом же году он был пожалован самозванцем в бояре. В 1608 году Одоевский участвовал в чине свадьбы царя Василия Шуйского на княжне Буйносовой; в 1609 году, когда тушинские шайки подступили к Москве принимал участие в ее защите и был осадным воеводой для вылазок у Арбатских ворот. В 1610 году князь Иван Никитич был назначен воеводой в Новгород, где ему и пришлось играть видную роль во всей дальнейшей истории смутного времени.
В 1610 году был низвержен царь Василий Шуйский, и Москва присягнула королевичу Владиславу. В Москве образовалось новое правительство, которое начало приводить к присяге королевичу и другие города Московского государства. В Новгород был послан для приведения к присяге и для оберегания от шведов, явившихся в это время на севере и от воровских шаек, которые начали уже грабить русскую землю, И. М. Салтыков. Новгородцы и, вероятно, во главе их и князь Одоевский, бывший постоянно в хороших отношениях с новгородским митрополитом Исидором, имевшим большое влияние на новгородцев, да, по-видимому, и сам пользовавшийся среди новгородцев уважением и любовью, согласились не раньше впустить Салтыкова и присягнуть королевичу, чем получат из Москвы список с утвержденной крестоцеловальной грамоты; но и получив грамоту присягнули только после того, как взяли с Салтыкова обещание, что он не введет с собой в город поляков. Впрочем, быть подданными польского королевича Новгороду пришлось недолго. Скоро в Москве и во всей России возникло сильное движение против поляков; во главе ополчения, поставившего своей задачей изгнать поляков из России, стал Ляпунов, вместе с некоторыми другими лицами составивший временное правительство, которое, вступив в управление страной, начало рассылать и воевод по городам. В Новгород этим правительством был также послан воевода Василий Иванович Бутурлин. Бутурлин немедленно же по прибытии в Новгород, начал переговоры со шведами, задумавшими воспользоваться в это смутное время удобным случаем и овладеть прибалтийскими областями, принадлежавшими Москве. Уже в марте 1614 года шведский генерал Делагарди, не ожидая серьезного сопротивления, подошел к Новгороду и спрашивал воевод, враги они шведам или друзья и хотят ли соблюдать Выборгский договор, заключенный со Швецией еще при царе Василии Шуйском. Разумеется, воеводы могли ответить только, что это зависит от будущего царя и что они на этот вопрос ответить не имеют права. Бутурлин, прибыв в Новгород, начал вести себя иначе: немедленно вступил в сношения с Делагарди, предлагая русскую корону одному из сыновей короля Карла IX. Начались переговоры, которые затянулись, а между тем у Бутурлина с Одоевским возникли распри: Бутурлин не позволял осторожному Одоевскому принимать мер к охране города, допустил Делагарди, под предлогом переговоров, перейти Волхов и подступить к самому пригородному Колмовскому монастырю, и даже разрешил, новгородским торговым людям поставлять шведам разные припасы. Шведы, разумеется, поняли, что им представляется очень удобный случай овладеть Новгородом, и 8 июля повели приступ, который был отражен только благодаря тому, что новгородцы во время успели сжечь окружавшие Новгород посады. Однако новгородцы продержались в осаде недолго: в ночь на 16‑е июля шведам удалось порваться в Новгород.
Сопротивление им было оказано слабое, так как все ратные люди были под начальством Бутурлина, который после непродолжительного боя удалился из города, пограбив новгородских купцов; Одоевский и митрополит Исидор заперлись в Кремле, но, не имея в своем распоряжении ни боевых запасов, ни ратных людей, должны были вступить в переговоры с Делагарди. Был заключен договор, разумеется, на тех условиях, какие были выгодны шведам, и Делагарди был впущен в Кремль. Условия этого договора заключались в том, что новгородцы обязывались прорвать всякие сношения с Польшей, должны были принять в покровители и защитники короля шведского, его преемников мужского пола и королевство шведское, не имели права без ведома Швеции заключать с кем бы то ни было мир или союз, обязывались выбрать и просить в цари одного из сыновей шведского короля, присягнуть ему и склонять к тому же все московское государство. До прибытия королевича Новгород должен был поступить под управление Делагарди, и воеводы новгородские вместе с ним должны были стараться о приведении к присяге королевичу всех окрестных городов; кроме того, новгородцы должны были не сноситься с Москвой. Делагарди, в свою очередь, обязался не разорять Новгорода, не присоединять к Швеции русских областей, кроме присоединенного уже Корельского уезда, не делать притеснений православной вере и не нарушать ее основных прав. Новгородцы обязались исполнять эти условия даже и в том случае, если остальные части московского государства не согласятся принять их. Таким образом, по этому договору Новгород был совершенно обособлен от всего остального государства и в то же время поставлен в очень тяжелое положение по отношению к Швеции: новгородцы даже не могли выговорить условия, чтобы королевич для принятия престола принял православие. Одоевский скоро почувствовал свое тяжелое зависимое положение от Делагарди, несмотря на то, что шведский король старался задобрить его, и в сентябре 1611 года пожаловал ему в поместье большой и богатый Святорусский Славятинский погост. Все дела по управлению Новгородом и его областью ведал сам Делагарди, Одоевский постоянно чувствовал на себе его контроль, все грамоты и челобитья писались на имя «боярина Якова Пунтосовича» (Делагарди) и потом уже в них помещалось имя князя Ивана Никитича, иногда же оно и вовсе пропускалось. В декабре 1611 года Одоевский должен был вместе с митрополитом Исидором послать в Стокгольм уполномоченных с предложением русского престола одному из шведских королевичей. Разумеется, при таком положении дел Одоевский, да и все новгородцы во главе с своим митрополитом Исидором, по-видимому, сохранявшим самые лучшие отношения с Одоевским, старались найти где-либо поддержку против шведов и, естественно, прежде всего обратились к Москве, с целью восстановить нарушенное единство, склонить и остальное государство к выбору шведского королевича и, таким образом, не чувствовать себя такими одинокими и беспомощными. Как раз в это время, в половине 1612 года, в Московском Государстве появилась новая могучая сила, стремившаяся восстановить нарушенный смутой порядок — земское ополчение с князем Пожарским во главе. Пожарскому выгодно было начать сношения с Новгородом, так как, ведя борьбу с поляками, он должен был обезопасить себя от шведов. Между Ярославлем, где тогда находилось земское ополчение, и Новгородом начались оживленные пересылки. Первый начал их князь Пожарский, послав в Новгород Степана Татищева с грамотами к Одоевскому и митрополиту Исидору и с просьбой сообщить ему о том, как у них положено со шведами. Одоевский и Исидор также отправили в Ярославль своих послов, князя Федора Оболенского с выборными из Новгородцев. Оболенский должен был уговаривать начальников ополчения признать царем шведского королевича; Пожарский соглашался, но с условием, что королевич примет православие, и после довольно продолжительных споров Оболенский от имени Новгорода обещал, что в случае отказа королевича принять православие Новгород присоединится к Москве. Таким образом, Одоевский достиг своей цели и не только не порвал сношений с Москвой, но даже успел заинтересовать новгородским делом всю Россию. Впрочем, летописи говорят, что Пожарский вел все эти переговоры только с той целью, чтобы поддержать добрые сношения со шведами и таким образом во время своих действий под Москвой обезопасить себя с севера. Это подтвердилось позже, когда, после изгнания поляков из Москвы, Одоевский снова послал послов к Пожарскому с напоминанием о договоре, заключенном в Ярославле и об обещании избрать на царство шведского королевича. Послы получили ответ, что «такого великого государственного и земского дела, не обославшись и не учиня совета с Казанским, Астраханским, Сибирским и Нижегородским государством и со всеми городами Российского царства, со всякими людьми от мала до велика, одним учинить нельзя». Известно, что на соборе 1613 года был избран на царство Михаил Федорович Романов. Одоевский с Новгородцами оказался в безвыходном положении: присоединиться к Москве не было возможности, так как Новгород был в руках Делагарди и новгородцы были связаны прежним договором, но и разорвать с Москвой было тяжело, ибо это значило отделиться от того фундамента, из которого Новгород получал все жизненные начала. К этим затруднениям присоединилось еще и то, что в самом Новгороде положение сделалось невыносимым. Король шведский Карл IX умер, и его преемник Густав Адольф в июне 1613 года прислал в Новгород грамоту, в которой извещал, что отправил своего брата Карла-Филиппа в Выборг, куда должны явиться и уполномоченные от Новгорода и от всей России для окончания дела избрания его на царство. Одоевский и Новгородцы должны были повиноваться, и в Выборг было отправлено посольство во главе с Хутынским архимандритом Киприаном бить челом королевичу, чтоб он немедленно шел в Новгород. Карл-Филипп, однако, ехал в Выборг вовсе не для того, чтобы царствовать в Новгороде: он рассчитывал занять престол в Москве и начал предъявлять, претензии на всероссийский престол. Разумеется, новгородцы не могли доставить ему Московского престола, и Карл-Филипп уехал в Стокгольм. В Новгороде между тем на смену Делагарди явился шведский фельдмаршал Эверт Горн, человек очень резкий, обращавшийся с новгородцами еще хуже, чем Делагарди, и видевший в Новгороде не государство, с которым нужно вести сношения согласно заключенному договору, а покоренную территорию. В январе 1614 года он объявил Одоевскому и выборным новгородцам, что Густав Адольф сам хочет быть королем в Новгороде и предлагает Новгороду соединиться с Швецией, но на известных правах, так, как соединились Литва и Польша, угрожая в случае непокорности окончательным присоединением Новгорода к Швеции, но уже на правах покоренной области. Положение, в которое был поставлен Одоевский этим запросом, было критическое, но он нашел возможным извернуться, сказав Горну, что такое великое дело не может быть решено без опроса всех жителей Новгорода. Новгородцы немедленно были опрошены, но вопрос был поставлен очень хитро: «хотят ли целовать крест Густаву Адольфу, или хотят остаться при прежней присяге королевичу Карлу-Филиппу». Разумеется, все новгородцы выразили желание остаться при прежней присяге и Одоевский бил челом королю, что новгородцы помнят свою прежнюю присягу королевичу Карлу-Филиппу и «за его пресветлейшество везде рады головы свои положить». Эверт Горн все-таки настаивал на присяге самому королю, утверждая, что королевич Филипп отказался от Новгородского престола. Но новгородцы уже возмутились, не будучи более в состоянии выносить владычества шведов и тех насилий, которые Горн допускал над жителями. Стали раздаваться голоса за присоединение к Москве, началось брожение; наконец, князь Никифор Мещерский с некоторыми другими новгородцами прямо заявил шведскому фельдмаршалу: «Вы хотите души наши погубить, а нам от московского государства не отлучаться». Одоевский также, по-видимому, сочувствовал движению к Москве, но он понимал, что для этого необходима борьба с шведами и сознавал невозможность бороться одними собственными силами без ратных людей и без запасов, и решил обратиться к Москве, прося у нового царя помощи против шведов. Он притворился, что согласен присягнуть шведскому королю, но заявил Горну, что прежде присяги он должен напомнить московским боярам их прежнее обещание — признать королевича своим царем и под этим предлогом послал в Москву своих послов, архимандрита Киприана и нескольких выборных. Послы явились к боярам и били челом, что неволей целовали крест королевичу, а теперь хотят просить у царя, чтобы он вступился за новгородское государство и не дал бы ему окончательно погибнуть от шведского произвола. Царь Михаил Федорович принял послов очень милостиво и велел дать им две грамоты: одну официальную, в которой все новгородцы назывались изменниками, а другую тайную, в которой царь писал, что он прощает новгородцам все их вины. Послы возвратились с двумя такими грамотами в Новгород, официально показывали только одну грамоту, но тайно распространяли среди народа другую. Между тем, в продолжение всех этих событий велась оживленная война Швеции с Россией, затем начались переговоры, окончившиеся 27 февраля 1617 года Столбовским миром, по которому Новгород снова отошел к Москве. Но Одоевский не дожил до этого: он умер в 1616 году, находясь в шведском подданстве.
В апреле 1611 г. инициировал розыск о двух образах, пропавших после ухода из Новгорода кн. М.В.Скопина Шуйского, а ранее принадлежавших его шурину (брату жены) казненному М.И.Татищеву. По делу привлекались софийский поп Амос Иванов и Иван Тимофеев. Найдя образа у попа Амоса (который, по его словам предполагал переслать образа в Москву, когда «Бог даст государя», снял свои обвинения против Амоса и Тимофеева, отказался от штрафования дьяка и протопопа, сохранив однако приговор, где эти штрафы упоминаются в своих бумагах, вместе с печатью Великого Новгорода. Впоследствие смог переправить искомые образа в Москву к братьям М.И.Татищева. В марте 1615 г. во время судебного преследования дьяка Тимофеева Пятым Григорьевым, сам будучи судьей, разъяснил своему товарищу Эверту Горну историю с образами (Дело по изветной челобитной дьяка Пятого Григорьева на дьяка Ивана Тимофеева. 1615, март // RA, NOA, serie 2: 55).
2 июля 1611 г. получил по памяти из новгородского винного погреба 10 ведер вина (Приходно-расходные книги государева винного погреба. 1611. 28.03-// RA, NOA, serie 1: 60. С. 20).
8 августа 1611 г. «велеможного короля Карла королевич, которого он пожалует государем царем и великим князем на Росиское государство боярин и воевода Яков Пунтосович Делегард произволил дати Ладожской порог боярину и воеводе князю Ивану Никитичу Большому Одоевскому». Потом велено оставить, потому что погост прежде был за помещиками, а те помещики имали себе всякие доходы (Дело по двум челобитным крестьян Ладожского порога о количестве оброков с Михайловского погоста на Ладожском пороге, взимаемых в Дворцовый приказ // RA, NOA, serie 2:351, л. 31–71).
В сентябре (после 9) получил в поместье Славетинский погост (Дело о пожаловании в поместье кн. Ивану Никитичу Большому Одоевскому Старорусского Славитинского погоста. 1611, сент. // ДАИ. Т. 1. СПб., 1846. № 160. С. 278–280).
30 августа 1611 г. получил 5 ведер вина в 16 кружек (Приходно-расходные книги государева винного погреба. 1611. 28.03-// RA, NOA, serie 1: 60. С. 45).
4 июля 1612 г. заплатил 8 рублей за мерина, на котором выехал из Пскова конюх Вора Пятка Васильев (Роспись разных казенных сборов доимочных и взятых по итогам за 117, 118 и 119 и предшествующие годы на 120 год за приписью дьяка Андрея Лысцова (без начала) // RA, NOA, serie 2:350 (serie 1:140), л. 594–595).
В марте 1613 г. бил челом Якову Делагарди о поместье в Холынском погосте (Доклад Я.Делагарди о даче ввозной грамоты боярину кн. И.Н.Большому Одоевскому на владение поместьем. 1613, март // АЮБ. Т. 1. № 71. Ст. 497–499).
28 мая 1613 г. ему было отделено поместье в Холынском погосте (Отдел подгородного поместья князю Ивану Никитичу Одоевскому в Холынском погосте Деревской пятины подьячим Родионом Бабиным. 1613. 28.05 // RA, NOA, serie I: 119, л. 223–228).
Осенью 1613 г. подьячий Федор Харламов обнаружил, что крестьянин кн. И.Н.Большого Одоевского, распахал и засеял участок земли в дворцовой части села «А по досмотру подьячего Федора Харламова священником и старостою и целовалником, у того князе Иванова крестьянина Никитича Большого Одоевского у Нечайка Ларионова с товарыщи на пустоши на Дуткине на дворовых и на огородных местех сеяны конопли, августа по 25‑е число не волочены. Да на пустоты насажено 8 гряд, а заполоски кошены, а по смете волостных людей тех конопель наволочити будет 50 снопов, а ис тех конопель по смете умолоитца четь семени. А на заполосках укошено и сметано в трех зародцех по смете 100 копен волоковых сена, а по росписи за дьячей приписью те дворовые и огородные места тому крестьянину Нечайку Ларионову в даче не написаны. И тот Нечайко перед священником и перед волостными людьми оброчной не показал, а сказал: пашут де ту пустош, дворовые и огородные места и сенные покосы, по аче приказщика Кузьмы Коноплева и оброчная де у меня есть, тольке положу в Новегороде перед государевым дияком, как у меня спросят, а тебе де я не покажу. И о том как государь укажет?» (Выдельные книги государева оброчного хлеба дворцового села Холыни приказчика Федора Харламова. 1613, августа // RA, NOA, serie 1:99. С. 143–145).
Прихожанин Князь-Владимирской церкви в Новгороде, 25.01.1614 г. (Расходные книги государевой хлебной казны. 1613/14 // RA, NOA, serie I: 46. С. 31).
15 августа 1614 г. получил письмо от уехавшего из Новгорода к королю в Ивангород Я.Делагарди со следующими словами: «А про меня, государь, похочешь ведати, и я, государь, приехав в Заречье со князем Иваном Ивановичем, августа по 10 день дал Бог здоров, да того же дни, государь, поехали в Копорье, да из Копорья, государь, чаем ехати вскоре к государю в Ругодив» (Письмо графа Делагарди кн. Ивану Одоевскому, во время путешествия его из Новгорода в Ревель к королю Густаву Адольфу. 1614. 10.08 // ДАИ. Т. 2. СПб., 1846. С. 41).
В бытность его руководителем Новгородского государства, потерял умершими двух сыновей — князей Ивана Ивановича (в 1612 г.) и Василия Ивановича (в 1616 г.) Одоевских, похороненных в Антониеве монастыре. Интересно, что ни о том, ни о другом князе архивные источники не упоминают (Мятлев Н. Место погребения Михаила Игнатьевича Татищева // ЛИРО. 1905. Вып. 1. С. 3 (2‑я паг.)).
† 1616, марта 7. Погребен в Троице-Сергиевской Лавре 94
Согласно росписи русского войска 1604 г., кн. Иван Никитич Большой Одоевский выставил в поход против Самозванца 23 вооруженных всадника (т. е. имел около 2300 четв. поместной и вотчинной земи), а его племянник выставил 12 всадников «оприч вяземской земли» (около 1200 четв.).95 За И. Н. Большим Одоевским упоминается поместье в Шацком у. 2/3 с. Зименки, которым владел кн. Иван Иванович Одоевский (очевидно, его племянник И. И. Меньшой Одоевский, за которым в земляном списке 1613 г. показано поместье кн. И. Н. Большого в Мещере), а затем им владела его вдова Агафья с дочерью княжной Степанидой.96
∞, АГАФЬЯ ИГНАТЬЕВНА ТАТИЩЕВА. 10 марта 1616 г. записала за себя холопа (Sundberg H. The Novgorod Kabala Books of 1614–1616. Text and commentary (Acta Universitatis Stockolmiensis. Stockholm Slavic Studies, vol. 14). Stockholm, 1982. С. 87–89). 23 мая 1616 г. записала за себя послужильца своего брата и мужа (там же, с. 102–103).
23/15. КН. ИВАН НИКИТИЧ МЕНЬШОЙ ОДОЕВСКИЙ (1574,†9.03.1629)
третий сын Никиты Романовича и его жены, неизвестной по имени, в иночестве Феодоры; боярин(1629) моск.двн.(1607) стольник(1589) 97.
Упоминается с 1586 года, когда еще молодым человеком был в свите царя; 1588, сент, 21, стольник, за столом Государя «смотрел в большой стол». 98. В 1590 году в звании рынды при большом государевом саадаке он участвовал в свите царя Федора Иоанновича в походе против шведов, в 1591 году он участвовал в отражении от Москвы крымских татар и за отличие в этом походе был награжден золотым, потом до самой смерти царя Федора Иоанновича Одоевский находился при дворе, участвуя в разных придворных церемониях, в приемах иноземных послов или присутствуя при торжественных царских обедах. 1593, марта 1, при приеме Литовского посла, был рындой в белом платье, вместе со старшим братом Иваном 99. 1597, мая 22, стольник, участвовал, в церемонии приема посла Австрийского Императора 100. В 1598 году, по смерти царя Федора, Одоевский участвовал в соборе об избрании на царство Бориса Годунова и подписался под соборной грамотой, а затем, в том же году, участвовал под личным начальством нового царя в походе к Серпухову против крымских татар.
После этого мы не имеем о нем никаких известий до 1611 года, когда находим его воеводой в Вологде, где он был и в 1612 году. В этом году одна из бродивших в то смутное время по всей Руси шаек малороссийских казаков, отделившись от войска гетмана Ходкевича, подступила к Вологде; город был плохо защищен: по свидетельству очевидцев, Одоевский и другие воеводы были пьяны, войско и боевой наряд находились в беспорядке, и казаки без труда ворвались в город, разграбили его и убили воевод и начальных людей. Одоевский едва успел бежать из города и явился в стан земского ополчения в Ярославль. Здесь он скоро занял довольно видное положение, пользовался уважением и подписывался под увещательными грамотами, рассылавшимися из Ярославля в разные русские города, на одном из первых мест. Вместе с ополчением Одоевский, по-видимому, был и под Москвой, принимал участие в выборе на царство Михаила Феодоровича Романова и 13 апреля того же года получил приказание идти против Заруцкого, опустошавшего со своими шайками области вокруг Москвы. 19 апреля Одоевский выступил из Москвы по направлению к Епифани, где, по слухам, находился тогда с своими шайками Заруцкий, успевший присоединить к себе по дороге воевод и ратных людей из Михайлова, Зарайска, Владимира и Суздаля. Заруцкий оставался в Епифани очень недолго: он вскоре ушел оттуда, явился к Дедилову, ограбил его, сжег Крапивну и направился к Туле, стремясь соединиться с литовскими отрядами. Одоевскому нужно было во что бы то ни стало не допустить этого соединения, и он быстро двинулся к Туле. Но уже в мае дали знать в Москву, что Заруцкий из-под Тулы ушел, приступал к Ливнам, а оттуда пошел к Лебедяни, и Одоевский получил приказание немедленно оставить Тулу и идти со всеми войсками к Данкову и Лебедяни. Нагнал Одоевский Заруцкого только у Воронежа, где и вступил с ним в бой. Относительно исхода боя до нас дошло два известия: сам Одоевский в своем донесении писал, что он разбил Заруцкого наголову, взял в плен многих его людей и заставил его бежать в степь за Дон к Медведице. Летопись же говорит, что московские воеводы Заруцкому ничего не могли сделать, что Заруцкий сам побил множество воронежцев и ушел к Астрахани. Мы не имеем возможности определить истинность того или другого известия, но Заруцкий действительно бежал от Воронежа к Астрахани и быстро занял этот город. Здесь он, по-видимому, начал выдавать себя за царевича Димитрия, стал сноситься с волжскими, донскими и яицкими казаками и возмущать их против московского правительства; вместе с тем он старался возбудить против Москвы и ногайских князей. Одоевский всеми силами старался воспротивиться возмущению казаков, посылал к ним грамоты с увещанием не соединяться с Заруцким, посылал на Волгу деньги, запасы, вина, сукна и всякое жалованье, старался успокоить донских казаков, вместе с тем хотел поссорить Заруцкого с ногаями и возмутить против него жителей Астрахани. Но во всех этих мероприятиях, очень разумных самих по себе, главной помехой являлось то обстоятельство, что для этих посылок у московского выводы не было достаточного количества ни денег, ни запасов, а между тем и то и другое требовалось в громадном количестве; следствием этого было то, что Заруцкий начал явно усиливаться: к нему стали стекаться разные воровские казацкие шайки из северных и замосковных уездов, ногайский князь Иштерек-бей также открыто принял его сторону, присоединилась к Заруцкому часть волжских казаков, объявил себя за Заруцкого и Терской городок. Словом, Заруцкий усилился и уже подумывал двинуться вверх по Волге к Самаре, чтобы потом пробиться внутрь России, но не сумел воспользоваться своим выгодным положением, вызвал своими насилиями и грабежами сильное восстание против себя в Астрахани, возбудил против себя и Терской город, где его посланные хотели убить любимого народом воеводу Головина. Между тем против Заруцкого был отправлен с Терека с небольшим отрядом стрелецкий голова Василий Хохлов, который, подойдя к Астрахани, соединился с восставшими жителями ее, осадил в Кремле Заруцкого и заставил его бежать из Астрахани. Заруцкий бежал на Яик, и Одоевский воспользовался трудами Хохлова, въехал с торжеством в Астрахань и, видимо, старался присвоить себе славу победы над Заруцким. На Яик были посланы стрелецкие головы Пальчиков и Онучин, которые 23 июня осадили Заруцкого в городке яицких казаков, у которых самозванец нашел убежище, и после продолжительного и упорного боя заставили казаков 25 июня 1614 года выдать Заруцкого, находившуюся с ним Марину и ее сына. Пленники были отправлены в Астрахань к Одоевскому, который немедленно же отправил их под сильным конвоем в Казань, а оттуда в Москву. «В Астрахани», писал он царю, «мы держать их не смели для смуты и шатости». Таким образом, Заруцкий после годовой борьбы был уничтожен; но необходимо было успокоить страну, привести к повиновению казаков и ногайцев и уничтожить воровские шайки, разгуливавшие по всему юго-востоку России.
1613, дек. 6, пожалован боярином 101. 1614, отправился по Волгѣ въ Астрахань, очищать ее от Заруцкого. 102. 1614—5, воевода Астрахани. Его деятельность в этом отношении выразилась в постоянных сношениях с казаками, которым он посылал жалованье, в постоянных посылках воевод для усмирения и уничтожения шаек, в восстановлении разрушенных мятежниками городов и острогов, в восстановлении прекратившихся вследствие грабежей воровских людей торговых сношений с персидскими и армянскими купцами. В 1615 году он был еще в Астрахани. 1617, окт., послан был в Можайск, для вразумления попосадских людей — чтобы не изменили, подобно Дорогобужанам 103. В 1618 году был участником собора о защите Москвы от войск королевича Владислава; во все время осады Москвы поляками князь Иван Никитич был в городе и принимал участие в защите столицы. 1619, февр. — 1628, дек., управлял Владимирским Судным Приказом 104. 1619, июня 21, с Казанским, митрополитом был послан к отцу Государя —Филарету — с вестью об избрании его Патріархом 105. В 1620 году князь И. Н. Одоевский был отправлен воеводой в Казань и пробыл там до 1624 года, когда был отозван в Москву и снова поставлен во главе Судно-Владимирского приказа, где находился до самой своей смерти, не прекращая в то же время своей очень почетной придворной службы. 1624, сент. 19 и 1626, февр. 5, участвовал на обеих свадьбах Государя 106.
Умер князь И. Н. Одоевский в 1629 году и был похоронен в Троице-Сергиевской Лавре 107.
Вотчины его Моск. у. сц. Угрюпино с дд. и пуст. и Ярославск. у. с. Фроловское, дд. Кривцова, Речкова, Крюковская, Дубровка, Горбуновская, Дресвяная и др., всего ок. 500 четв., в 1635 г. принадлежали племяннику его родному, кн. Никите Ивановичу О. 108.
В земляном боярском списке 1613 г. за кн. Иваном Никитичем Меньшим Одоевским показаны старые его «и с тем, что было за братом ево кн. Большим» (И. Н. Большим Одоевским, находившимся тогда в бывшем под шведами Новгороде) вотчины размером в 2942 четв., а также данное ему «при боярех» поместье в 1500 четв.; за сыном И. Н. Меньшого кн. И. И. Меньшим Одоевским показано старое поместье его дяди (И. Н. Большого Одоевского) в Мещере, 450 четв.109 Основу старых, досмутных вотчинных владений кн. Одоевских составляли их вотчины в Бежецком Верхе (в Дорской и Сулегской вол. и в Мещерском и Березовском ст.). Здесь мы встречаем старые вотчины кн. И. Н. Большого и И. Н. Меньшого Одоевских (всего 1293 четв. земли) и их племянника кн. Ивана Михайловича Одоевского (всего 646 четв., в 1620‑х гг. ими владела его вдова кнг. Анна).110 За кн. И. Н. Меньшим Одоевским, по дозорной книге 1614/15 г., значилась запустевшая «исстари» и в годы Смуты («от литовских людей») старая вотчина в Микулинском ст. Тверского у. (с. Романово-Ивановское и пустое с. Тимошкино); эта вотчина перешла затем к его племяннику кн. Н. И. Одоевскому, который в 1631 г. дал ее по душе дяди и его жены Ксении Борисовны в Троице-Сергиев м‑рь (523 четв. земли).46 Кроме того, кн. И. Н. Меньшой был пожалован вотчинами за московские осадные сидения при царе Василии (в Верховском ст. Ярославского у., 201 четв.) и «в королевичев приход» 1618 г. (в Верховском ст. Ярославского у., 407 четв. и в Замотренском ст. Муромского у., 592 четв.); впоследствии эти вотчины были пожалованы его племяннику кн. Н. И. Одоевскому, за которым они значатся в писцовых книгах конца 1620‑х гг.111
За кн. И. Н. Меньшим Одоевским значились поместья в Горетове (по грамоте 1620/21 г. приселок, что было с. Урюпино) и в Шахове (д. Банево и пустоши, оказавшиеся затем в поместье кн. Петра Канмурзина Урусова и в порозжих землях) ст. Московского у.112 После смерти И. Н. Меньшого Одоевского его подмосковное поместье сц. Урюпино-Никольское 21 марта 1629 г. было дано в поместье думному дьяку Ф. Ф. Лихачеву, который в том же году купил его в вотчину, но впоследствии, в 1635 г., Лихачев взамен взятой у него подмосковной вотчины сц. Никольского (Урюпин приселок) получил вотчину в Рузском у.113 Сц. Урюпино перешло к племяннику И. Н. Меньшого Одоевского кн. Н. И. Одоевскому первоначально в поместье, а затем, в 1635 г., это поместье было продано ему в вотчину; около 1638 г. в с. Урюпино он поставил деревянную церковь.114 В своем духовном завещании 1689 г. Н. И. Одоевский называет «село Никольское, Урюпино тож» своей купленной вотчиной.115
∞, 1°, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ..... (†09.08.1624)116.
∞, 2°, Ксения Борисовна ...., бывшая в первом браке за кн. Петром Тутаевичем Шейдяковым. 1631, март. 15, племянник ее кн. Никита Иванович Одоевский дал Троице-Сергиеву монастырю вклад, по дядесвоем бояр. кн. Ивану Никитичу Меньшому Одоевском, но жене его, кн. Ксении Борисовне и по первом ее муже, кн. Пет. Тут. Шейдякову, — сц. Тимошкино и Романовское Тверск. у. 117.
24/15. КНЖ. ЕВДОКИЯ НИКИТИЧНА ОДОЕВСКАЯ (* 2‑я треть XVI в.)
Погребена в Троице-Серг. Л. 118.
М., КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ЕЛЕЦКИЙ (* 2‑я треть XVI) 119.
КЖ. СЕРАФИМА МИХАЙЛОВНА ОДОЕВСКАЯ, ИН. МАРИЯ
Игуменья Новгородского Рождественского девичьего мон. 120.
† 1655 121.
XXІІ генерація від Рюрика
25/21. КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1590, † 1618)
стольник (1604,1607), сын Михаила Никитича Романовича 122. 1608, был рындой при приеме послов 123. 1610, стольник и воевода в Серпухове 124.
Убит под Москвой Литовскими людьми 125.
Кн. Иван Михайлович Одоевский, помимо упомянутых выше старинных вотчин в Бежецком Верхе, был пожалован вотчиной «за царя Васильево московское осадное сидение» в Верховском ст. Ярославского у., которой владела затем его вдова Анна Ивановна, а впоследствии вотчина перешла к его двоюродному брату кн. Н. И. Одоевскому (400 четв.).126 Упоминается купленная кн. И. И. Меньшим Одоевским у своей невестки Анны Ивановны, вдовы кн. И. М. Одоевского, вотчина в Горетове ст. Московского у. (половина с. Куркина, 111 четв.).127
Ж., КНЖ. АННА МИХАЙЛОВНА ТУРЕНИНА ОБОЛЕНСКАЯ (1629), дочь Михаила Туренина. † 1637, июня 2 128. Погребена въ Троице-Серг. Л. В «Спис. погр. Тр.-Серг. Л.» № 34, дата ее смерти указана 1676, июня 2, и она показана женой кн. Ив. Михайловича Одоевского. Подтверждение этому находим в Вотчинных книгах молодых лет по Ярославлю: «За кн. Никитой Ивановичем О. вотчина невестки его, вдовы кн. Ивана Михаиловича О.,
княгини Анны, дд, Новоястребская, Смотыкинская, Сласникова, Березникова, Ковалева, Гусева и др., 400 5
/8 четв. 129. В брошюре архим. Леонида «Надписи Тр.-Серг. Лавры», год погребения кн. Анны Ивановны О. показан 1637 (7145), июня 2, что, конечно, вернее указываемого «Списком погреб. в Тр.-Серг. Л.».
26/22. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ БОЛЬШОЙ ОДОЕВСКИЙ (†1616.04.21)
Сын 130. «Убил себя сам из пищали в Новгороде». Не служил. † Новг.,Антониев м‑рь, в паперти соборной церкви.
В августе 1614 г. сопровождал вместе с Григорием Муравьевым, князем Никифором Мещерским и Олфером Сиверовым Якова Делагарди из Новгорода в Ругодив (Кормовые книги Якова Пунтусовича Делагарди, как поехал из Великого Новгорода и боярина и большого ратного воеводы Эверта Горна, как шел из Новгорода. 1614, авг. // RA, NOA, serie I: 128. С. 7–8). 10 августа 1614 г. прибыл в Копорье, откуда далее вместе с Делагарди двинулся в Нарву (Письмо графа Делагарди кн. Ивану Одоевскому, во время путешествия его из Новгорода в Ревель к королю Густаву Адольфу. 1614. 10.08 // ДАИ. Т. 2. СПб., 1846. С. 41). В Ругодиве вступился за Якова Боборыкина, которого Густав Адольф предполагал посадить на кол (Замятин Г.А. К вопросу об избрании Карла Филиппа на русский престол (1611–1616 г.). Юрьев, 1913. С. 140). 9 ноября и 27 декабря 1614 г. его человек записал за него холопов (Sundberg H. The Novgorod Kabala Books of 1614–1616. Text and commentary (Acta Universitatis Stockolmiensis. Stockholm Slavic Studies, vol. 14). Stockholm, 1982. С. 16, 24). Также 30 июня 1615 г., в частности, послужильца Олфера Северова (там же, л. 44–45).
Участник похода Густава Адольфа под Псков, приехал под Псков в тот же день, как Я.Делагарди пошел из-под Пскова к Новгороду (пришел в Новгород 18 августа), в середине августа 1615 г. (Расспросные речи переводчика Павла Томосова в Твери о делах в Новгороде. 1615. 8.09 // РГАДА, ф. 96, 1615, д. 9, л. 67–69). В 1615 г. (возможно, в конце 1614 г.) поручился за плененного в Новоселицколм острожке Угрима Лупандина (Отписка Дж.Мерика послам кн. Д.И.Мезецкому с товарищами с сообщением о том, что шведские послы настаивают на проведении съезда в Дедерине и с изложением челобитной Угрима Лупандина. 1615. 10.11 // РГАДА, ф. 96, 1615, д. 11, л. 206–211). 16 ноября 1615 г. записал за себя холопов, в том числе послужильцев Афанасия Терпигорева и Фаддея Выповского (Sundberg H. The Novgorod Kabala Books of 1614–1616. Text and commentary (Acta Universitatis Stockolmiensis. Stockholm Slavic Studies, vol. 14). Stockholm, 1982. С. 57–58). 18 марта 1616 г. записал за себя несколько отцовских послужильцев (там же, с. 89–90).
Скончался незадолго до 2 мая 1616 г. (там же, с. 98–99, 101–102).
135—139 г. за вдовою за княгинею Марьею боярина кн. Ивановою женою Ивановича Одоевскаго по духовной матери еѣ Марѳы Ивановы дочери Семенова сына Упина, а Михайловы жены Богданова сына Сабурова 112 г. х ) за подписью и за печатью Ѳеодосія архіепискупа Астраханскаго и Терского а въ прнправочныхъ писцовыхъ книгахъ Василья Вельяминова 104 и 105 г. вотчина село Поздѣевское на рк. Нерехтѣ, а въ селѣ ц‑вь Рожество Преч. Богор. древена клѣцки, а на церк. землѣ во дв. пп. Иванъ Ивановъ дчк. Павликъ Семеновъ дв. пп. пусть, проск. Марѳица Яковлева въ селѣ жъ дв. вотчин. 2 дв. нищихъ кормятся по міру, пашни церк. пахоныя середнія земли 4 чети да.перелогомъ 4 чети а выдѣлена та земля изъ вотчиннивы пашни. 153 г. октября отказано боярину кн. Никитѣ Ивановичу Одоевскому въ помѣстье село Поздѣевское, что было въ вотчине за женою брата его Марьею Михайловою Сабурова, а въ селѣ ц‑вь Рожд. Преч. Бог. деревянная клѣтцки, а въ ц‑ви и.церк. строенія образъ мѣстной Рожд. Пресв. Бог. на золотѣ, двери царскія на прозелени, да въ деисусѣ на тяблѣ 11 образовъ на прозелени обр. запрестольной Прес. Бог. Одегитрія на прозелени, евангеліе на престольное письмяное, евангелисты на евангелии басменыи крестъ обложенъ серебромъ въ басму золоченъда книгъ треодь цвѣтная письмяные, апостолъ, шестодневъ, минея общая, трердь поеная псалтырь, часовникъ, треѳолой печатные, да три колокола, а вѣсу въ нихъ сказалъ тое ц‑ви (?) I 1 /, пуда у тое ц‑ви пп. Матвей Ивановъ дчк. Гаврилко Ондреевъ пн. Петръ Ивановъ просв. Марѳица іевлева.
За кн. И. И. Меньшим Одоевским значились приданые вотчины его жены кнг. Марии (дочери Михаила Богдановича Сабурова и Марфы Ивановны Упиной) в Костромском (с. Поздеевское в Нерехотской вол., 425 четв.) и в Ярославском (сц. Сидоровское в Закоторомском ст., 430 четв.) у., которыми после его смерти (в 1628 г.) владела, согласно писцовым книгам, его вдова, кнг. Мария Михайловна.131 Впоследствии эти владения перешли к кн. Н. И. Одоевскому; первоначально он получил их в качестве поместий, а затем перевел в вотчины. На поместье — с. Поздеевское в Нерехотском ст. Костромского у. (435 четв.) — Н. И. Одоевскому была дана ввозная грамота 28 ноября 1644 г. (РГАДА. Ф. 233. Кн. 671. Л. 895 об.). В росписи земельных владений московского боярства 1647/48 г. с. (сц.) Поздеевское Костромского у. значится за Н. И. Одоевским уже как вотчина, а с. (сц.) Сидорово (Сидорково) в Закоторомском ст. Ярославского у. значится за сыном Н. И. Одоевского кн. Федором Никитичем Одоевским как поместье (Рождественский С. В. Роспись 1647/48 г. Стб. 206–207). В духовном завещании 1689 г. боярина кн. Н. И. Одоевского с. Поздеевское Костромского у. и с. Сидорово (Сидорково) Ярославского у. упоминаются как вотчины (ИРГО. Вып. IV. С. 383, 385, 387). И. И. Меньшому Одоевскому принадлежала также бывшая вотчина его тестя М. Б. Сабурова и тещи Марфы Ивановны (Упиной) в Манатьине ст. Московского у. (сц. Фоминское, 160 четв.). В писцовой книге Московского у. 1623–1624 гг. за И. И. Меньшим Одоевским значится бывшая вотчина Деменши Ивановича Черемисинова — сц. Фоминское в Мана- тьине ст., 160 четв., которой он владел «по данной 127 (1618/19) года» (ПК 9806. Л. 112, 644 об.). — По писцовой приправочной книге 1584–1586 гг. эта вотчина действительно принадлежала Д. И. Черемисинову, а прежней ее владелицей была Мария Семенова жена Александровича Упина (родственница жены М. Б. Сабурова) (ПКМГ. Ч. I. Отд. I. С. 185). Но вскоре вотчиной завладел Михаил Богданович Сабуров — с. Фоминское в Манатьине ст. упоминается за ним в вотчине в межевой книге вотчин Троице-Сергиева м‑ря 1593/94 г. (НИОР РГБ. Ф. 303. № 599. Л. 91).
Упоминается купленная кн. И. И. Меньшим Одоевским у своей невестки Анны Ивановны, вдовы кн. И. М. Одоевского, вотчина в Горетове ст. Московского у. (половина с. Куркина, 111 четв.).132 За кн. И. И. Меньшим Одоевским числились выслуженные вотчины — за московское осадное сидение при царе Василии в Андомском ст. Костромского у. (150 четв., из отцовского поместья с. Троицкого, данного отцу из бывшего владения опального кн. И. В. Голицына)133 и за московское осадное сидение «в королевичев приход» (по грамоте 1626 г.) в Галичском у. (из его поместья, данного ему из Доровской и Шарицкой черной вол., 180 четв.); часть земли, «что осталась за вотчинною дачею», оставалась за ним в поместье.134
Ж., МАРИЯ МИХАЙЛОВНА САБУРОВО-ВИСЛОУХОВА (1624,1628), дочь Михаила Богдановича Сабурова и Марфы Ивановны Упиной. Овдовев, вышла замуж за кн. Петра Пронского 135).
27/22. КН. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ († 20.04.1612, †Новгород, Антониев м‑рь)
Второй сын Ивана Большого Никитича Одоевского 136. «В приказах не был».
б/д
28/22. КН. НИКИТА ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ († 1689)
ближний боярин и воевода, наместник Астраханский и Владимирский, третий сын Ивана Большого Никитича Одоевского 137.
12 сентября 1614 г. записал за себя послужильца Варшуты Дивова, 20 сентября — еще одного холопа, 9 ноября — еще одного (Sundberg H. The Novgorod Kabala Books of 1614–1616. Text and commentary (Acta Universitatis Stockolmiensis. Stockholm Slavic Studies, vol. 14). Stockholm, 1982. С. 12, 13, 16). 10 марта 1616 г. записал за себя несколько холопов (там же, с. 87–89). 2 и 22 мая 1616 г. записал за себя послужильцев своего отца и брата, кн. И.И.Одоевского (там же, с. 98–99, 101–102). В 1615/16 г. бил челом о пожаловании ему на оброк для косьбы в Холынской волости на Пшаге пустоши на Пруды, не кошенной со времени морового поветрия. Челобитная была удовлетоворена (Дело по челобитной кн. Никиты Одоевского о пожаловании ему на оброк в Холынской волости на Пшаге пустоши на Пруды для косьбы. 1615/1616 // RA, NOA, serie 2: 209).
1618—19, стольник, при осаде Москвы был при Государе: «был вверху у Государя и за службу жалован вотчиной» 138. 1624, сент. 19, на церемонии свадьбы Государя — в числе поезжан 139. 1626 , фев. 5, то-же самое 140. В 1633 г. был направлен для набора войск в Ржев, но вступил в местнический спор с князем Черкасским, дело проиграл и отсидел в тюрьме 141. В 1640 г. из стольников пожалован в бояре 142. В 1640–1642 гг. первый воевода в Астрахани 143 и был награжден за службу — шубой (атласъ
золотной на соболяхъ въ 200 руб.), кубком в 3 фн.„ придачей к денежному окладу 50 руб. и из поместья в вотчину 500 четв. 144. В 1643- 1645 гг. управлял двумя Приказами — Сибирским и Казанского Дворца 145. 1644, фев. 3 и 1645, янв. 27, вел переговоры — «был в ответе» — с Датскими, а потом — Литовскими послами 146. 1646, фев. 1, указано ему, в виду прихода Крымских татар, быть перпервым воеводой большого полка в Белгороде 147. 1648, янв. 16, на свадьбе Государя, был «дружкой», а жена (названа Авдотьей Федоровной) — «свахой» со стороны Государя 148. 1648, июля 17, назначен Председателем Комиссии по составлению Уложения 149. 1651, мр. 17, указано ему быть первым воеводой в Казани 150. 1653, фев. 2,заменен другим 151. 1654, май, воевода передового полка в Вязьме 152. Принимает деятельное участие в войне с Польшей и во взятии городов Орши, Дубровны, Вильно и др. 1656, июля 11, участвует на съезде послов в Вильне 153. В 1656 г. окт. 24, он в сане ближнего боярина, наместника Астраханского, великого и полномочного посла, ведет переговоры с уполномоченными Польши и заключает мир 154. 1662, фев. 19, отправился въ Смоленск великим послом на съезд с польскими уполномоченными. 155. В 1668 г. управляет приказами Большой Казны. Рейтарским и Иноземным 156. В 1671 г. янв. 22, на свадьбе царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной был посаженым отцом, а его жена княгиня Евдокия Федоровна – посаженой матерью со стороны жениха 157. В 1674 г. он великий и полномочный посол при переговорах с польскими послами в Мигновичах, близ Смоленска. 158 В 1680 г. возведен в сан наместника Владимирского 159. В 1682 г. янв. 12, подписался под постановлением Собора об отмене местничества как старейший из всех подписавшихся бояр. В 1684 г. управлял Аптекарским приказом 160. Во время переворота 27 апреля 1682 г. Никита Иванович, с сыном Яковом и братом Василием Ивановичем, по-видимому, поддерживали на престол кандидатуру царевича Петра Алексеевича, но уже в конце мая, в условиях народного восстания в Москве, они вступили в соглашение с князем В. В. Голицыным и поддержали правительницу царевну Софью Алексеевну. В период ее нахождения у власти влияние князей Одоевских было очень велико, так как члены их фамилии входили в состав администрации как правительницы, так и Петра I.
ближний боярин и воевода, сын боярина князя Ивана Никитича Большого. Рано лишившись отца, он с самого раннего возраста был уже на службе: в 1618 году, во время осады Москвы войсками королевича Владислава, он был в свите царя в звании стольника и, хотя по своей молодости еще не был записан в действующее войско, но по природному молодечеству являлся во время тревог и принимал участие в стычках с поляками, за что и было ему пожаловано его поместье в вотчину. После этого, он продолжал придворную службу: по своему званию стольника «смотрел в столы» во время торжественных царских обедов, ездил в качестве рынды с царем по окрестным монастырям, участвовал в чине обеих свадеб царя Михаила Федоровича. Осенью 1633 года, когда началась новая война с Польшей, князь Никита Иванович был назначен воеводой в Ржев и получил приказание «збираться с ратными людьми» из всех соседних уездов, раздать им жалованье, и идти под Смоленск и «над польскими и литовскими людьми государевым делом промышляти, сколько милосердный Бог помочи подаст». Однако, ратные люди собирались очень туго; время, между тем, проходило, положение дел под Смоленском делалось все хуже, и вскоре Одоевский получил новое приказание — идти в сход к боярину князю Димитрию Мамстрюковичу Черкасскому, отправленному на помощь стесненному под Смоленском боярину Шеину. Впрочем, под Смоленск Одоевскому и на этот раз не удалось попасть, так как Черкасский дальше Можайска не пошел, а между тем война закончилась и войско было распущено. Одоевский также был отозван в Москву, где продолжал свою придворную службу, пожалованный, между прочим, в 1635 году в большие стольники. Оклад его в это время достигал 150 руб., суммы очень большой по тому времени. 12 января 1640 года, в день именин царевны Татьяны Михайловны, князь Н. И. Одоевский был пожалован из стольников в бояре, с денежным окладом в 500 руб. и вскоре за пожалованием был отправлен воеводой в Астрахань, где пробыл до 1643 года, заботясь о благоустройстве города и заслужив своей деятельностью расположение царя. В 1643 году князь Н. И. Одоевский был отозван в Москву и получил здесь 6 декабря награду за свое управление Астраханью: ему была пожалована атласная соболья шуба ценой в 200 руб., придача к окладу и кубок весом в 3 фунта. В Москве Одоевский занял пост первого судьи в Казанском и Сибирском приказах; в это же время начинается и его дипломатическая деятельность: в 1644 году, когда приехал в Москву датский королевич Вольдемар и начались переговоры о браке его с царевной Ириной Михайловной, Одоевский, вместе с князем Ю. А. Сицким, был назначен к «ответу» с датскими послами относительно подробностей свадебного договора и дальнейшей жнзни королевича в России. Известно, что эти переговоры были безрезультатны, так как королевич Вольдемар отказался принять православие, что было необходимо для брака с русской царевной. Между тем, в 1645 году умер царь Михаил Федорович и на престол вступил «тишайший царь» Алексей Михаилович. Одоевский занял сразу видное положение в составе нового правительства; он находился, по-видимому, в близких отношениях к Морозову, был женат на родственнице царя Евдокии Федоровне Шереметевой, стоял близко и к самому царю, с которым был даже в переписке; словом, считался одним из виднейших вельмож этого времени. Тотчас же по смерти царя Михаила Федоровича он получил приказание привести к присяге новому царю всю боярскую думу, весь двор и всех жителей Mосквы, а в день венчания царя на царство был пожалован в ближние бояре. Зиму этого года он провел в Москве, а 1 февраля 1646 года получил почетное назначение на пост главного воеводы в Ливны — руководить защитой южных границ Московского государства от возможного нападения крымцев. На этом посту Одоевский оставался до 1647 года, пока не был отозван в Москву. Деятельность Одоевского в Ливнах выразилась в укреплении южных границ Московского государства, для чего он насыпал валы, выкапывал рвы, устраивал засеки. По прибытии в Москву Одоевский занял свое прежнее почетное положение при дворе, и в январе 1648 года, в почетном звании первого дружки, участвовал в чине свадьбы царя на Милославской. Майские беспорядки 1648 года показали, что Одоевский за свою близость к Морозову не пользовался любовью народа, но это не помешало сохранить ему доброе расположение царя и после удаления Морозова. Расположение это и значение, которое придавали его уму, сказалось скоро в том, что князь Никита Иванович был призван к очень важному делу — составлению Уложения. 16 июня 1648 года был издан царем указ, которым назначалась комиссия для составления проекта Уложения в составе трех представителей боярской думы и двух дьяков. Во главе комиссии был поставлен Одоевский, а с ним приказано было заседать в ней боярину князю С. И. Прозоровскому и окольничему князю Ф. Ф. Волконскому. Задачи комиссии определялись особым царским наказом, которым приказывалось членам: «которые статьи написаны в правилах святых апостол и святых отец и в градских законех греческих царей, пристойны те статьи к государственным и к земским делам, и те бы статьи выписать и чтобы прежних великих государей, царей и великих князей российских и отца его государева, блаженные памяти великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси указы и боярские приговоры со старыми судебниками справити, а на которые статьи в прошлых годех прежних государей в судебниках указа не положено и боярских приговоров на те статьи не было, и те бы статьи потому же написати и изложити по его государеву указу общим советом, чтобы Московского государства всяких чинов людям от большего и до меньшого чина суд и росправа была во всяких делех всем ровно». Таким образом, на комиссию возлагались две задачи: во-первых, кодифицировать весь имевшийся в тогдашней судебной и приказной практике законодательный материал, в виде ли «градских законов греческих царей», или «правил св. апостол», или указов прежних царей, во-вторых, проявить и самостоятельную законодательную деятельность составлением новых статей. До нас не дошло известий, как выполнялась эта программа, как шли занятия в комиссии и насколько в составлении «Уложения» принимал участие тот или другой член ее, но, тем не менее, мы можем выяснить себе некоторые факты из ее деятельности: так, мы имеем известия, что в приказах шла спешная переписка царских указов и боярских приговоров для комиссии. Вероятно, все эти документы группировались в комиссии по отделам, а потом рассматривались и записывались дьяками в Уложенный докладной столбец. Относительно источников Уложения новейшие исследования указали, что, кроме указанных в царском наказе источников, комиссия пользовалась и Литовским Статутом, из которого было сделано масса выписок, впрочем, очень продуманных, с большой оценкой и коренной переработкой. Члены комиссии должны были обладать солидной подготовкой, большими знаниями в польском праве, должны были быть хорошо знакомы и с приказной практикой и с священным писанием. Занятия комиссии велись очень спешно, так что трудно представить, как можно было приготовить такой обширный законодательный памятник, как Уложение, за такое небольшое время: 16 июля была назначена комиссия, а 3 октября того же года уже приступил к рассмотрению Уложения земский собор, собранный для этого в Москве. Исследования проф. Загоскина и Сергеевича показали, что в составлении Уложения принимали немалое участие и члены этого собора. Очень многие статьи Уложения написаны в ответ на челобитья выборных или даже их избирателей. Закончены были работы Уложенной комиссии 29 января 1649 года, когда и было приступлено к печатанию Уложения. Уложение, по сравнению с прежними законодательными русскими памятниками, представляет значительный шаг вперед. Оно значительно систематичнее всех прежних законодательных памятников; содержание его было гораздо полнее прежних судебников: в нем мы находим целый ряд ответов на вопросы права гражданского и государственного. Подробнее других отделов изложено в Уложении уголовное законодательство. Таким образом, Одоевский со своими помощниками очень удачно справился со своей задачей и Уложение, изданное под его руководством, осталось единственным актом гражданского законодательства еще и в послепетровскую эпоху. После этого служба Одоевского, прерванная на время усиленной деятельностью в комиссии, пошла своим обычным порядком; он по-прежнему присутствовал при дворе, часто бывал приглашаем к торжественным царским обедам, участвовал в разных придворных церемониях и в то же время поддерживал самые лучшие отношения с царем: во время частых поездок царя по монастырям и окрестным примосковным селам управление в Москве поручалось всегда Одоевскому.
К этому же времени относится еще один случай дипломатической деятельности Одоевского: в конце 1650 года приехал в Москву польский посланник Альбрехт Пражмовский с тайной целью поссорить московское правительство с малороссийским гетманом Богданом Хмельницким, как раз в это время просившим у Москвы помощи и заступничества против поляков. Одоевскому, назначенному для переговоров с ним, удалось раскрыть эту тайную цель польского посла и когда поляки, с целью запугать московское правительство и настроить его против Хмельницкого, объявили, что Хмельницкий соединился с крымским ханом, чтобы идти на Москву, князь Никита Иванович отвечал, что «гетман Богдан Хмельницкий со всем войском запорожским учинился у королевского величества в подданстве и королевскому величеству, слыша от казаков такое злое умышление, можно их от самовольства унять». Относительно же крымцев, нашествием которых угрожали поляки, Одоевский говорил: «крымские рати царскому величеству не страшны, а на украйне против них у царского величества люди готовы». В 1651 году Одоевский получил новое назначение — первым воеводой в Казань, где и пробыл до 1053 года. Осенью 1653 года мы снова его видим в Москве при царском дворе. 15 мая 1654 года он отправился в польский поход вместе с царем, участвовал вместе с князем Яковом Куденетовичем Черкасским во взятии Орши, Дубровны, Копыся и Шклова, и осенью возвратился вместе с царем Алексеем Михайловичем в Москву; зиму этого года провел в Москве, а весной 1655 года он снова сопровождал царя в поход под Смоленск и возвратился осенью вместе с царем в Москву, где в награду за свою службу получил почетное звание астраханского наместника. Зимой 1655—1656 года Одоевский снова выступил на дипломатическом поприще, с которого потом уже не сходил до конца царствования Алексея Михайловича. 23 декабря 1655 и 13 января 1656 года он вел переговоры с приехавшими в Москву для подтверждения Столбовского мира шведскими послами и под тем предлогом, что шведские послы неправильно пишут царский титул, отказался от подтверждения этого невыгодного для России договора. В мае 1656 года Одоевский снова отправился с царем в Литву и здесь 13 июля был отправлен из Полоцка в Вильну, для переговоров о мире с польскими комиссарами. Положение Польши в это время было в высшей степени тяжелое: король Ян-Казимир едва держался, и царю Алексею Михайловичу представлялся очень удобный случай выполнить свою заветную мечту — занять польский престол и объединить под своей властью Польшу и Россию. В этом направлении был дан наказ и Одоевскому. В Вильно же прибыли в качестве посредников при переговорах и австрийские послы, приехали и выборные из польских и белорусских городов и шляхты свидетельствовать, что в русском подданстве их не притесняют, и этим склонять поляков к избранию Алексея Михайловича. Одоевский начал говорить об избрании не сразу, сперва он предъявил очень тяжелые требования для заключения мира: он потребовал уступки всей Литвы и уплаты до 1½ миллиона военных издержек. Разумеется, польские комиссары на это согласиться не могли и, в свою очередь, требовали уступки всего завоеванного царем и уплаты военных издержек. Начались споры, и только тогда на одном из съездов Одоевский предложил полякам по смерти Яна-Казимира избрать на польский престол Алексея Михайловича. Поляки отнеслись к этому предложению сочувственно, но зато теперь австрийцы начали открыто протестовать против такого поворота в переговорах, не желая, чтобы возросло могущество московского царя. Несмотря на эти протесты, переговоры продолжались, но теперь уже сам царь решил пока не добиваться польского престола, но, прекратив хотя на время войну с Польшей, двинуться общими силами на шведов. Задача Одоевского значительно упростилась и после нескольких съездов ему удалось придти к временному соглашению, по которому дело об избрании царя было решено отложить до сейма, куда должны были явиться и московские послы; в то же время обе стороны обязались задержать войска и прекратить военные действия до новых съездов; со шведами же как поляки, так и русские не имели права заключать мир без обоюдного согласия. Разъехались послы в половине октября 1656 года, и Одоевский прямо из Вильны поехал в Москву, где и пробыл весь 1657 год, неся свою почетную придворную службу. В мае 1658 года Одоевский был снова отправлен на съезд с польскими послами в Вильно; выехав из Москвы, он скоро был уже в Белоруссии и собирался отправиться дальше, но был задержан в Минске и Гродне, где ему пришлось разбирать жалобы местного населения на русские войска. Жители жаловались, что ратные люди чинят им насилия и грабежи, воеводы своевольничают и производят насилия не менее солдат. Одоевский, как мог, разобрал все эти жалобы, смирил воевод, ввел некоторый порядок и затем уже отправился в Вильно, послав раньше к гетману литовскому Павлу Сапеге дворянина Данилу Астафьева узнать о настроении литовской знати и поручив ему попытаться отдалить се от короля и Польши и привлечь на сторону Москвы. Астафьев, однако, доносил, что в Литве довольно враждебно настроены к России, что литовцы, хотя и не довольны королем, но довольно крепко держатся единения с Польшей, и Одоевский т. е. ехал на съезд с польскими комиссарами (из которых главным был тот же Павел Сапега), уже сознавая, что этот съезд будет безрезультатен. Действительно, когда Одоевский явился в Вильно, комиссаров там еще не было; он ждал их до 6 августа и принужден был выехать, не добившись переговоров. Но в день выезда явились в Вильно гонцы с известием, что польские комиссары едут. Возмущенный Одоевский отказался возвратиться, и комиссары принуждены были уехать из Вильно не свидевшись с Одоевским. Не успел, однако, Одоевский со своей свитой выехать из Минска, как получил царский указ — вернуться обратно в Вильно и попытаться снова устроить съезд. Между тем отовсюду приходили известия, что литовский гетман подступает под царские города, а литовские люди, вопреки договору 1656 года, открыто начинают войну с Москвой. Одоевский решил выяснить все это на съездах, которые и начались 16 сентября. Большая часть их проходила во взаимных упреках: царские послы упрекали поляков в нарушении договора, а те упрекали русских в том, что русские хотят мириться со Швецией без ведома Польши, что было несогласно с договором 1650 года. Весь сентябрь прошел в таких спорах. Поляки по хотели и слышать об уступке Литвы, без чего Одоевский не имел права заключать мира. К этим несогласиям присоединилось и то, что поляки начали открыто нападать и брать в плен русских ратных людей и даже целые отряды их. Все это привело к тому, что Одоевский принужден был 9 октября прервать переговоры и дать знать стоявшему в боевой готовности князю Ю. А. Долгорукову, чтобы он начинал военные действия. Послы выехали из Вильны 10 октября и в конце года были уже в Москве, где Одоевский провел весь 1059 год, неся придворную службу и наблюдая за некоторыми постройками в укреплениях столицы. В начале 1660 года князь Н. И. Одоевский был снова отправлен на съезд с польскими комиссарами, но на этот раз в Борисов. С ним были отправлены и малороссийские послы, которые должны были защищать на съезде свои интересы. Одоевский получил наказ: не уступать Волыни и Подолии, требовать уничтожения унии в Литве, возвращения русских пленников и свободной торговли между Польшей и Малороссией. Но когда Одоевский прибыл со своей свитой в Борисов, то оказалось, что Польша и не думает мириться с Россией, комиссары не явились совсем и Одоевский, просидев без дела в Борисове до 19 июня, получил, наконец, из Москвы приказание уйти в Шклов. Сделать это было необходимо тем более, что с одной стороны, поляки явно старались подговорить крымцев напасть на Борисов, а с другой и русский воевода князь Хованский, вместо того, чтобы защищать послов и поддерживать их представления силой оружия, проиграл большую битву. Еще до наступления осени Одоевский был в Москве, где занимался обычными своими делами и службой, оставаясь очень часто, во время отлучек из Москвы царя, во главе управления, или исполняя разные мелкие царские поручения. Но недолго он жил спокойно: в 1662 году его снова ждала посольская служба: 18 февраля он был послан на съезд в Смоленск. Но и на этот раз съезд не состоялся: поляки опять не явились, и московские послы, прожив в Смоленске более года и не дождавшись поляков, 3 марта 1663 года выехали обратно в Москву, почти ничего не сделав и успев за это время только разменяться пленными.
На этот раз Одоевского ждало в Москве новое в высшей степени щекотливое дело. В 1663 году особенно обострились отношения между царем и патриархом Никоном. Никон начал позволять себе разные дерзкие выходки по отношению к царю и его приближенным, а однажды позволил себе даже предать проклятию одного из царских стольников Романа Бобарыкина, тягавшегося из-за земли с любимым Никоном Воскресенским монастырем. Бобарыкин донес царю, что Никон проклял самого царя. На «тишайшего» царя это подействовало очень тяжело. По совещании с боярами было решено послать в Воскресенский монастырь особую следственную комиссию и во главе ее поставили князя Н. И. Одоевского. Одоевский уже раньше находился в крайне натянутых отношениях к патриарху. Неприязненные отношения между ними начались еще с 1648 года. Одоевский, будучи председателем комиссии для составления проекта Уложения, ввел в него две меры, направленные к ограничению привилегий духовенства. Во-первых, Уложение запретило духовенству приобретать вотчины, а во-вторых, по Уложению был учрежден Монастырский приказ, которым ограничивались судебные привилегии духовенства и которому духовное сословие становилось подсудным наравне со светскими людьми. Монастырский приказ ограничивал и власть патриарха, что, конечно, не могло нравиться властолюбивому Никону, который, естественно, смотрел с недоброжелательством и на видимого виновника этого неприятного для него нововведения. «Князь Никита Иванович Одоевский», — писал о нем однажды патриарх — «человек прегордый; страха Божия сердце не имеет; правил апостольских и отеческих никогда не читает и не разумеет, и враг всякой истины». Назначенный в следственную комиссию князь Никита Иванович, разумеется, не мог очень снисходительно отнестись к патриарху, и вел следствие далеко не в его пользу, допрашивал свидетелей слишком строго, под угрозой пыток, старался запутать Никона, заставить его сказать что-либо, что могло бы быть истолковано в смысле недоброжелательства к царю, и успел заставить неосторожного патриарха сказать несколько слов, на основании которых Одоевский донес в Москву, что Никон ожидает только собора и вселенских патриархов, чтобы «отчесть от христианства великого государя». И в дальнейшей своей деятельности Одоевский выказал такие же враждебные отношения к Никону: в декабре 1664 года, когда Никон внезапно явился в Москву, Одоевский был послан к нему для переговоров и настоятельно требовал, чтобы он снова удалился в Воскресенский монастырь. В 1666 году на соборе, собранном для суда над Никоном, Одоевский явился его обвинителем и требовал его низложения, а во время самой церемонии лишения сана он, единственный из светских лиц, присутствовал при этом обряде. — Между тем, в мае 1664 года снова был назначен съезд с польскими комиссарами около Смоленска, и Одоевский был снова поставлен во главе русского посольства. Послам был дан подробный наказ, на основании которого они имели право заключить мир лишь при условии уступки Польшей Малороссии по левую сторону Днепра, Смоленска с некоторыми другими, близлежащими городами и сохранения за царем титула «всея Великия и Малыя и Белыя России». Но в Москве не знали, что такие условия мира были невозможны, так как поляки совсем не были настроены к невыгодному для себя миру, тем более, что воевода князь Хованский снова проиграл сражение под Витебском. Комиссары потребовали возвращения Польше всего завоеванного и уплаты Москвой военного вознаграждения в размере 10000000 польских злотых. Можно было добиться каких-либо результатов лишь при том условии, что представления послов найдут поддержку в успехах воевод; но способных воевод на театре войны не было: русские терпели поражения. Ко всему этому присоединились распри между самими послами. С Одоевским на съезд были отправлены князья Юрий и Димитрий Алексеевичи Долгорукие и известный впоследствии Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Ордин-Нащокин получил от царя особую секретную инструкцию, которой был выделен из среды других послов; князь Юрий Долгорукий тоже находился в особых сношениях с царем; кроме того, Одоевский и Долгорукий, старые бояре, враждовали с Ординым-Нащокиным, человеком, сравнительно неродовитым, появление которого в своей среде они считали для себя оскорблением. Переговоры были безрезультатны, и в сентябре послы разъехались, ничего не сделав. Впрочем, роль Одоевского в этих переговорах была ничтожна. Он только официально находился во главе посольства, все же дела ведали без него его товарищи, которые переписывались с царем помимо него и даже вели самостоятельно переговоры с польскими комиссарами.
Вообще, в это время мы замечаем перемену в отношениях к нему царя Алексея Михайловича. Царь, по-видимому, разочаровался в способностях своего ближнего боярина и уже 1658 году писал в одном из своих писем к князю Ю. А. Долгорукову: «а чаю, что князь Никита Иванович тебя подбил, и его дело, и его было слушать напрасно: ведаешь сам, какой он промышленник, — послушаешь, как про него поют в Москве». Это равнодушие и разочарование царя в одном из прежних своих фаворитов и сотрудников отразилось и на всей последующей служебной карьере князя Никиты Ивановича. По приезде в Москву он, правда, сохранил свое почетное положение, но ому уже не давалось важных ответственных поручений. Правда, в 1664 году ему пришлось в Москве вести переговоры с английским послом графом Карлейлем, напрасно старавшимся выхлопотать привилегии для английских купцов; в 1665 году ему было поручено вести переговоры с приехавшим в Москву гетманом Брюховецким, но все эти поручения не имели такого важного характера, каким отличались прежние труды Одоевского.
В 1668 году князь Н. И. Одоевский был поставлен во главе приказов: Большой казны, земского и рейтарского; в 1671 году во вторую свадьбу царя он получил весьма почетное назначение — быть посаженым отцом у царя; в 1674 году был отправлен на съезд с польскими комиссарами в Андрусово. В это время польский король Ян Собесский вел борьбу с Турцией и просил царя Алексея Михайловича о помощи. Одоевский должен был отклонить это ходатайство и вместе с тем отказаться и от заключения вечного мира, даже от увеличения числа лет перемирия. Все это Одоевскому удалось, и в декабре 1674 года он возвратился в Москву.
Со смертью царя Алексея Михайловича положение Одоевского, по-видимому, не изменилось. Он пользовался уважением молодого Федора Алексеевича, но был уже слишком стар, чтобы оказывать значительное влияние на дела. Впрочем, в 1677 году ему был поручен Аптекарский приказ, и в этом же году он получил звание наместника Владимирского. В 1681 году мы находим его в Московском Судном приказе и около того же времени он начинает занимать председательское место в возникшем около этого времени новом учреждении, носившем название Расправной, Золотой или Разрядной Палаты. Это учреждение создалось вследствие переполнения делами Боярской Думы; сановники, заседавшие в нем, занимались делами текущего управления и председательство в нем было в высшей степени почетным. На соборе 1682 года, собранном по поводу уничтожения местничества, Одоевский занимал первое место. По смерти царя Феодора Алексеевича, в правление царевны Софьи, Одоевский сохранил свое почетное положение при дворе вместе с председательством в Расправной Палате, хотя в делах приказов он уже не упоминается. Вообще, старость и утомление сказываются в его деятельности в это время, и этим объясняется тот факт, что в грамотах и документах того времени мы все реже и реже встречаем его имя. Лишь изредка, в некоторых особенно важных церемониях появляется престарелый боярин и занимает первое место в главном составе правительства, в котором, к тому времени, в звании бояр, заседали уже его внуки.
В своей духовной он оставил за старшего в семье своего сына князя Якова Никитича, наказав всей родне слушаться его. В этих последних наставлениях заметны черты быта боярской семьи, десятилетия жившей под надзором выдающегося главы рода — князя Никиты Ивановича. Теперь он завещал, чтобы сын брал с него пример: о всяких делах деда своего боярина князя Якова Никитича спрашиватца, так же и меж себя им правнучетом моим князь Михаилу и князь Юрью, и князь Василью, и князь Алексею жить полюбовно: не бранитися и не дратся. А будет матери своей почитать не станут и послушны не будут, и их смирять деду их, а моему сыну боярину князю Якову Никитичю. С своей стороны, князю Якову Никитичю надлежало к родне быть милостиву в мое и в отца их место, и внучат своих, а моих правнучат, от всякого дурна унимать, чтоб ево и мать свои почитали и ничем бы их не кручинили, и меж себя не бранились и не дрались, жили бы смирно и з своею братьею любовно, и о всяких делах ево спрашивались. А ежели почитать и слушать не станут и меж себя станут бранитися и дратся, и ему пожаловать вместо меня и отца их всяко наказать волно, и учить их и наказывать всякому добру как детей своих 161
Это пространное наставление князя Никиты Ивановича стоит особняком в ряду других духовных того времени и отражает ту роль, которую он игралв управлении четырех поколений своей многочисленной семьи143. Трижды повторенный наказ своим домочадцам «не браниться и не драться» подсказывает, что обязанности главы семьи воспринималась князем Никитой Ивановичем как многотрудный и постоянный надзор в духе «Домостроя».
Семья князя Н.И. Одоевского согласованно действовала на протяжении всего XVII в. В этом, несомненно, была заслуга главы рода — человека незаурядных знаний, житейского опыта, завидного долголетия и сильного характера. Он уверенно правил несколькими поколениями своих детей, внуков и правнуков, не выпуская их из «домового подданства»144 и не позволив ни одному из своих родственников оспорить мнение главы семьи «своею дуростию». В этом единстве была еще одна причина успеха князей Одоевских в XVII в., наряду с придворной службой. В царской Комнате князья Одоевские держались вместе: сначала старшие поколения пристраивали своих детей и внуков в царские спальники, а затем младшие представители рода использовали свое влияние на царя в интересах всей семьи.
Умер князь Никита Иванович 12 февраля 1689 года и был похоронен в семейной усыпальнице рода князей Одоевских, в Троице-Сергиевской лавре. От брака с Евдокией Федоровной Шереметьевой у князя Н. И. Одоевского было четыре сына: князья Михаил, Федор, Алексей и Яков.
Въ 1675 г., 14 июня, ехал он из своего подмосковного села
Выхина в Москву, когда разразилась ужаснейшей силы гроза: страшным ударомъ молнии, в его карете убило двух человек, его же только оглушило и он каким-то чудом остался жив 162. 1673, за ним была вотчина Моск. у., в с. Богородском 163.
После смерти И. Н. Меньшого Одоевского его подмосковное поместье сц. Урюпино-Никольское 21 марта 1629 г. было дано в поместье думному дьяку Ф. Ф. Лихачеву, который в том же году купил его в вотчину, но впоследствии, в 1635 г., Лихачев взамен взятой у него подмосковной вотчины сц. Никольского (Урюпин приселок) получил вотчину в Рузском у.164 Сц. Урюпино перешло к племяннику И. Н. Меньшого Одоевского кн. Н. И. Одоевскому первоначально в поместье, а затем, в 1635 г., это поместье было продано ему в вотчину; около 1638 г. в с. Урюпино он поставил деревянную церковь.165 В своем духовном завещании 1689 г. Н. И. Одоевский называет «село Никольское, Урюпино тож» своей купленной вотчиной.166
Получил отцовские, а после смерти своего дяди И. Н. Меньшого Одоевского (в 1629 г.) и двоюродного брата кн. И. И. Меньшого Одоевского (в 1628 г.) и их долю старинных вотчин в Бежецком Верхе (пуст., что было с. Сабурово, с. Корнеево с деревнями и пустошами в Дорской вол. и пуст. Клюница-Прунки с пустошами в Мещерском ст.).61 После смерти вдовы Анны, жены кн. И. М. Одоевского (ум. в 1637 г.), Н. И. Одоевскому достались и ее доли старинных вотчин Одоевских в Бежецком у. (с. Сулега в Дорской и Сулежской вол., 646 четв.) и ее прожиточное поместье в Ярославском у. (300 четв.).62 Позднее, около 1636 г., Н. И. Одоевский заложил Ивану Петровичу Мусоргскому и его мачехе в 300 и 700 руб. свои старинные, бывшие прежде за его отцом и дядей, вотчины в Дорской вол. Бежецкого у. (села /пустоши/Сабурово и Корнеево (Всемилостивого Спаса) с деревнями и пустошами),63 в которых, по писцовым книгам, числилось 1163 четв. земли. Согласно росписи земельных владений 1647/48 г., за Н. И. Одоевским и его сыновьями в Бежецком Верхе числилось лишь с. Сулега с деревнями и пустошами (по писцовым книгам в них значилось 516 четв. земли), принадлежавшее прежде вдове И. М. Одоевского Анне.64 К кн. Н. И. Одоевскому перешла, как говорилось выше, старин
61 ПК 588. Л. 180, 363 об.; РГАДА. Ф. 233. Кн. 666. Л. 58 об. 62 ПК 588. Л. 201; РГАДА. Ф. 233. Кн. 797. Л. 80. 63 ЗВК. С. 1120–1121. 64 Рождественский С. В. Роспись 1647/48 г. Стб. 206. — По своему духовному завещанию 1689 г. Н. И. Одоевский передает старинную бежецкую вотчину с. Сулега с деревнями и пустошами сыну Якову (ИРГО. Вып. IV. С. 382).
ского у. (с. Романово-Ивановское и пустое с. Тимошкино), которую он в 1630/31 г. дал в Троице-Сергиев м‑рь. В 1635 г. к нему перешло бывшее подмосковное поместье его дяди И. Н. Меньшого Одоевского — с. (сц.) Урюпино в Горетове ст. Московского у., которое он купил в вотчину. Н. И. Одоевский был пожалован выслуженными вотчинами своего дяди И. Н. Меньшого Одоевского за московские осадные сидения при царе Василии и «в королевичев приход» в Ярославском и Муромском у. и двоюродного брата кн. И. М. Одоевского за осадное сидение при царе Василии в Ярославском у. Н. И. Одоевскому достались приданые вотчины его двоюродного брата кн. И. И. Меньшого Одоевского, которыми владела затем вдова последнего Мария Михайловна, дочь М. Б. Сабурова и Марфы Ивановны Упиной, в Костромском и Ярославском у.65 Упомянутая выше вотчина кн. И. И. Меньшого Одоевского сц. Фоминское в Московском у. перешла впоследствии, после смерти его вдовы Марии Михайловны (Ивановны?), к сыну Н. И. Одоевского Михаилу Никитичу Одоевскому.66 Кн. М. Н. Одоевскому досталась от его бабки, Агафьи Игнатьевны (урожд. Татищевой) вдовы И. Н. Большого Одоевского, ее вотчина в Берендеевском ст. Дмитровского у. (пустошь, что было сц. Колычево, 55 четв.).67 Таким образом, к Н. И. Одоевскому и его потомкам перешли все основные земельные владения, которые в первой трети XVII в. принадлежали его отцу, а также дяде и двоюродным братьям, не оставившим мужского потомства. Н. И. Одоевскому досталось прожиточное поместье его матери и сестры в Подлесном ст. Шацкого у. (два жеребья с. Зименки, Сотницыно тож), которое было пожаловано ему затем в вотчину за московское осадное сидение «в королевичев приход» в 1618 г. и «за астраханскую службу» 1640–1642 гг. (405 четв.); в том же стане за ним значилось и поместье (390 четв.).68 За астраханскую службу 1640–1642 гг. он был пожалован также вотчиной сц. Неверово с деревнями в Нерехотской вол. Костромского у.,69 бывшим прежде за ним в поместье.70 Часть своего поместья в Нерехотской вол. Костромского у. (пуст. Чуриловская и др., 41 четв.) Н. И. Одоевский в январе 1644 г. купил в вотчину.71 Владел поместьем в Торокманове ст. Московского у. (д. Неронково-Гридино с пустошами, 46 четв.).72 В том же Торокманове 65 ПК 209. Л. 1355; ПК 549. Л. 438 об. 66 Власьев Г. А. Т. I. Ч. I. С. 110. 67 ПК 628. Л. 92; см. также: 3BK. С. 109; Холмогоровы. Вып. XI. С. 224. 68 ПК 12079. Л. 655. 69 РГАДА. Ф. 233. Кн. 671. Л. 289. 70 ПК 210. Л. 1228. 71 РГАДА. Ф. 233. Кн. 671. Л. 289. 72 ПК 9807. Л. 312 об.
ст. Н. И. Одоевский в 1628/28 г. купил вотчины из порозжих земель (всего 7 пустошей, 145 четв.).73 В Берендеевском ст. Дмитровского у. Н. И. Одоевский купил в 1632/33 г. вотчину у жены Никиты Григорьевича Васильчикова Соломониды Петровны, урожд. Татищевой (сц. Мас- лово, 48 четв.), в 1631/32 г. вотчину из порозжих земель (пустошь, что была д. Курово с пустошами, 136 четв.); в том же стане упоминается его вотчина пустошь Дягилцово с пустошами, 31 четв. (вероятно, также купленная из порозжих земель).74 Н. И. Одоевский владел вотчиной в Ряжском у. с. Курбатовом.75 Упоминается также его поместье в Емецкой вол. Костромского у.76 По данным Приказа сбора ратных людей 1638 г., за кн. Н. И. Одоевским всего числилось 4928 четв. вотчинной и поместной земли и 876 дворов, включая недавно (в 1637/38 г.) купленную вотчину в Муромском у. (100 четв. и 40 дворов).77 Известна вотчина в Замотрин- ском ст. Муромского у. (сц. Огрызково), которую кн. Н. И. Одоевский приобрел по закладной кабале 1637 г. Сергея Никитича Новокщенова с детьми в 800 руб.78 В 1642 г. Н. И. Одоевский купил вотчину у Ивана Петровича Мусоргского в Горетове ст. Московского у. (д. Минино).79 В 1643 г. он купил в том же Горетове ст. вотчину у боярина Б. И. Морозова (пустошь Дермино).80 6 декабря 1643 г. после царского стола Н. И. Одоевский был пожалован за астраханскую службу шубой, кубком и правом перевода 500 четв. своей поместной земли в Тверском у. в вотчину.81 В январе 1644 г. Н. И. Одоевский купил вотчину в том же Берендеевском ст. Дмитровского у. у Якова Сергеевича Рагозина.82 В 1640‑х гг. за кн. Н. И. Одоевским числилось поместье в Старорязанском ст. Рязанского у. (жеребей с. Ижевск).83 Следует отметить, что значительную долю земельных владений Н. И. Одоевского к концу царствования Михаила Федоровича (по приведенным выше данным писцовых книг и книг Печатного приказа — свыше 2100 четв. земли, или добрую половину всех вотчинных его земель) составляли выслуженные вотчины его самого, а также его дяди и двоюродных братьев. Значительная же часть родовых вотчин Одоевских в Бежецком Верхе, как мы видели, к концу царствования Михаила Федоровича была утрачена представителями этого рода.
73 ПК 264. Л. 505. 74 ПК 628. Л. 110, 118, 125 об.; Архив СП6ИИ РАН. Ф. 130. № 7; 3BK. С. 205. 75 ПК 13329. Л. 707 об.-709. 76 ПК 209. Л. 486 (упоминается как Никита Михайлович?). 77 РГАДА. Ф. 137. Москва. № 2. Л. 56. 78 3BK. С. 449. 79 3BK. С. 463–464. 80 3BK. С. 665. 81 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 299. Л. 107 об. 82 3BK. С. 1222. 83 Рождественский С. В. Роспись 1647/48 г. Стб. 206.
∞, 10.II.1622, ЕВДОКИЯ ФЁДОРОВНА ШЕРЕМЕТЕВА (†21.09.1671), дочь Фёдора Ивановича Шереметева и кнж. Ирины Борисовны Черкасской, внучатая сестра Царю Алексею Михайловичу, т. к. ее родной дед, кн. Бррис Камбулатович Черкаский, был женат на Марфе Никитишне Романовой, а их дочь — кж. Ирина Борисовна, вышедшая за Федора Ив. Шереметева, и была матерью Евдокии Ѳедоровны. † 1671, сент. 21; в схиме —Ефросиния. Погребена в Моск. Новодѣвичьемъ мон.. 167.
29/23. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ МЕНЬШОГО ОДОЕВСКИЙ (1590, † 1628.08.09, пох. Троицк.Серг.м‑рь)
— боярин и воевода, наместник Костромской, сын князя Ивана Никитича Меньшого.
1608, при приеме послов был рындою 168. В 1612 году был послан Пожарским и земским ополчением, в котором принимал участие, воеводой в Вологду, где пробыл и 1613 год. 1614, возвратился в Москву 169. В 1617 году мы находим его при дворе, участвующим в приемах иностранных послов; 18 ноября этого года он был назначен приставом при приехавших в Москву персидских послах Кай-Салтане и Булат-Беке. В 1618 году, когда наступал на Россию польский королевич Владислав, Одоевский был послан во Псков разбирать детей боярских, дворян и иноземцев и приготовлять их к службе. 1620 — 1, первый воевода Пскова, 170. 1622, апр. 14, пожалован из стольников в бояре. 171. 1624, сент. 19, на свадьбе государя участвовал «в сидячих боярах», а жена его кн. Мария Михайловна не принимала участия только потому, что была больна 172. В 1626 году князь Иван Иванович был назначен первым воеводой в Новгород в сане наместника Костромского, где на воеводстве же он в 1629 году и умер 173.
В книге под № 9944 старых лет по Москве, в деле № 17, читаем: «1619 года за боярином кн. Иваном Ивановичемъ О. въ Моск. у. сц. Фоминское 160 четв.», и далее: «1645 года вотчнина вдовы боярина кн. Ив. Ив. О. княгини Марии Ивановны сц. Фоминское 160 четв. дано боярину кн. Мих. Никит. О.» Точно также и в другой такой-же книге по Москве, № 9904, в д. № 59, она названа Ивановной: «1645 года вотчина жены боярина кн. Ив. Ив. О. вдовы княгини Марии Ивановны, Моск. у. сц. Фоминское 160 четв. дана боярину кн. Мих. Никит. О., сын которого, кн. Юрий Мих. О., в 1669 г. продал ее Заборовскому». У Холмогорова 174 находим, что 1623, с. Фоминское Моск. у. принадлежало кн. Ив. Ив. Одоевскому и после смерти его им владела жена его, вдова кн. Марья Ивановна; в 1649 с. Фоминское отдано кн. Мих. Никит. О., «потому что после боярыни княгини Марьи роду никого не осталось».
∞, МАРИЯ ИВАНОВНА .....
Спиридов: «Записки о старинн. службах русск. благородн. родов» (Рукопись Импер. Публ. Библ.) IV, 506—507; Древняя Российская Вивлиофика (2 изд.) IX, 252: Дворцовые разряды I, 228, 253, 385, 493, 633, 750, 762; Русская Историческая Библиотека II, 485—489, Книги разрядные I, 548, 716, 762, 784, 1239, 1347, II, 78, 184: Акты Московского Государства, I, 139; Собрание Госуд. Грамот и Договоров, III, 233, 283, Акты исторические, III, 237; Дополнения к актам историческим, I, 303; Акты Археографической Экспед. II, 351, III, 18.
30/22. КНЖ. ФЕДОСЬЯ ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ († 14.11.1628)
† 1628, нояб. 14; погребена в Троице-Серг. Лавре 175.
М., КН. ФЕДОТ ВАСИЛЬЕВИЧ ПРОНСКИЙ.
XXIIIгенерація від Рюрика
31/28. КН. МИХАИЛ НИКИТИЧ ОДОЕВСКИЙ (1618/30, †17.12.1653, Троицк.Серг.м‑рь)
стольник (1640), сын боярина, князя Никиты Ивановича 176.
Для обучения старшего сына князя Михаила был приглашен книжник Савватий, близкий к справщикам Печатного двора. Княжичу Михаилу Савватий посвятил стихотворные
наставления: «Прещение вкратце о лености и нерадении всякому, бываемому во учении» и «Азбука отпускная тебе, моему ученику» 177. Любопытно, что Савватий был уволен с Печатного двора патриархом Никоном и нашел покровительство в доме князя Н.И. Одоевского. Лично к Никону князь Одоевский относился нетерпимо.
Всю свою службу он провел при дворе, сопровождая часто царя Алексея Михайловича в его поездках по монастырям и примосковным селам. 1640, стольник с окладом 800 чети, и 60 руб. 178. 1644, янв. 28 , при приеме Датского Королевича Вольдемара, во время обеда «носил пить перед Государем» 179. В 1646 году он был на службе в Ливнах при отце, бывшем в то время там главным воеводой 180. В 1648 году он был пожалован в спальники, отправлял службы при Дворе 181, но уже в 1652 году прекратилась его недолголетняя служба: он умер от «огненной» болезни и был похоронен в Троице-Сергиевской Лавре. До нас дошло письмо царя Алексея Михайловича к отцу князя Михаила Никитича князю Никите Ивановичу, написанное вскоре по его смерти. Из этого письма видно, что князь М. Н. Одоевский был очень близок к царю, который любил с ним беседовать, часто бывал у него в доме, постоянно виделся с ним и был очень к нему расположен.
1649, наследовал с. Фоминское Моск. у., которое в 1669 принадлежало сыну его, кн. Юрию Михайловичу 182. 1653, его поместье Галицк. у. 313 1/2 четв. дано вдове его кн. Марфе с сыном Юрием 183. Кн. Мих. Никит наследовал оченьи имения от своего деда — Федора Ивановича Шереметева 184. 1651, от Ф.И. Шереметева получил с. Большово Моск. у., перешедшее к его сыну кн. Юрию 185.
В декабре 1644 г. вотчину в Берендеевском ст. Дмитровского у. (пустоши Харламово и Соколова) купил у Михаила Дмитриевича Колычева сын Н. И. Одоевского Михаил Никитич Одоевский.84 М. Н. Одоевский, женатый на дочери боярина кн. Ивана Васильевича Голицына, получил в качестве приданого от вдовы последнего, кнг. Ульяны Ивановны Голицыной, вотчину в Иржинском ст. Арзамасского у. с. Мечасово с деревнями.85 За кн. Федором Никитичем Одоевским значилась в 1640‑х гг. приданая вотчина в Городском ст. Угличского у. (с. Красное с деревнями), доставшееся ему от тестя кн. Ивана Михайловича Катырева-Ростовского.86 От кн. И. М. Катырева-Ростовского к кн. Одоевским перешла и его вотчина с. Прусы в Манатьине ст. Московского у.87 Позже, уже в царствование Алексея Михайловича, к кн. Одоевским перешла значительная часть вотчин боярина Ф. И. Шереметева (тестя кн. Н. И. Одоевского) на основании его духовного завещания от 29 ноября 1645 г.88
84 3BK. С. 730. 85 Об этом мы скажем ниже при рассмотрении земельных владений кн. Голицыных. 86 Рождественский С. В. Роспись 1647/48 г. Стб. 206. 87 Там же. Стб. 207; Холмогоровы. Вып. IV. С. 67–68.
88 См. подробнее ниже о землевладении Ф. И. Шереметева. О судьбе вотчин Ф. И. Шереметева, перешедших к кн. Одоевским, см.: Власьев Г. А. Т. I. Ч. I. С. 79 и сл.; ИРГО. Вып. IV. С. 379–389 (Духовная кн. Н. И. Одоевского 1689 г.).
∞, КН. МАРФА ИВАНОВНА ГОЛИЦЫНА († 10.08. 1665), дочь князя Ивана Васильевича Голицына (†18.6.1626) и княжны Ульяны Ивановны Дашковой. † 1665, авг. 10 186.
32/28. КН. ФЕДОР НИКИТИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 1620‑е, † 18.07.1656)
боярин и воевода из княжеского рода Одоевских, сын ближнего боярина князя Никиты Ивановича Одоевского и Евдокии Фёдоровны Шереметевой 187. Исходя из даты рождения отца, мог родиться в 1620‑е годы.
Числится в списке списке стольников с 1640 года. На протяжении нескольких лет служил при дворе, где участвовал в дипломатических отношениях с иноземными послами, сопровождал царя в поездках по государству. 1644, янв. 28, стольникъ, при приеме Датскаго Королевича Вольдемара, за обѣдомъ «носил пить перед Государем» 188. 1654—5, в Смоленском пох. Государя, былъ Головой у первой сотни стольников. Ходил из Вязьмы под Красное
на неприятеля 189. 1655, апр. 15, после взятия Смоленска из стольников пожалован в бояре, 190. В письме боярину В.В. Бутурлину царь подробно описал мотивы своей исключительной милости: «для ево великова покаяния Богу и к нам зелнова послушания, что покаялся Богу и нам всем сердцем, не как не старой князь Федор стал, не как летось ходил дуростью, а ныне во всем желает от нас указу и от отца нашего (патриарха Никона. — Генеограф) благословения, а естьли бы нраву своево не переменил, и я б ево и не помыслил послать, и о том нам, великому государю, зело бил челом от всея души, чтоб ты его простил <…>. А он обещает для нас, великого государя другом быть, и ведаешь ты наш обычай: хто к нам не всем сердцем станет работать, и мы к нему с милостию не вскоре приразимся» 191. 1655, апр. 20, указано ему ехать в Астрахань, собрать там ратных людей и калмыков и идти на Крымского Хана 192 Однако моровое поветрие в Астрахани не позволило совершить этот поход. Крымским татарам удалось двинуться на Украину, оттянуть на себя русско-казацкие силы, осаждавшие Львов и сразиться с ними в битве под Озёрной. Весной 1656 года Одоевский участвовал в царском походе в Прибалтику, был пожалован наместником псковским и вызван в Вильну для участия в заключении с поляками Виленского перемирия. Однако Одоевского настигла болезнь, в результате которой он умер в Полоцке 18 июля 1656 года. 19 июля 1656 г. князь Никита Иванович сообщил царю, что «сына его боярина князя Федора Никитича Одоевского не стало» 193. Тело его было перевезено в Москву и погребено в Троице-Сергиевой лавре 194.
1646, стольник; за ним было сц. Ивановское с дер. Губкиною, a после им владел сын его кн. Василий 195. 1647, он получил вотчину деда — Федора Ивановича Шереметева — Моск. у. деревни: Мордовскую, Лутошкино, пустоши: Хлебникову, Пенково, Медведкову, Гаврилково и др., всего 249 1/2 четв.; в 1657, эта вотчина отдана вдове его кн. Софье Ивановне, с детьми — кн. Степаном и Василием 196. 1656, за ним утверждено с. Воскресенское (Васильево) Моск . у., доставшееся ему после смерти его сестры, Ткн. Прасковьи Никитишны Черкасской. После смерти его († 1656), этим селом владела вдова его, кн. Софья Ивановна, а потом дети их — кн. Степан (у 1666) и кравчий кн. Василий Федоровичи 197. Кроме того, тесть его, кн. Ив. Mих. Катырев-Ростовский уступилъ ему 1/3 с. Девичья Рукава, Шацкого у. 198.
Ж., КНЖ. СОФИЯ ИВАНОВНА КАТЫРЕВА-РОСТОВСКАЯ († 23.06.1676), дочь князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского и княгини Ирины Ивановны (Григорьевны), двоюродная сестра царя Алексея Михайловича. Сыновья: Степан Фёдорович Одоевский (ум. 1666), стольник, и Василий Фёдорович Одоевский (ум. 1686), боярин (1680) и дворецкий (1680), управлял различными приказами. 1674, окт. 1 и 8, была приглашена к столу Царицы Наталіи Кирилловны 199. † 1676, іюня 23; погреб, въ Троице-Серг. Лавре 200.
33/28. КН. АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ ОДОЕВСКИЙ (1649,†15.12.1655)
стольник из княжеского рода Одоевских, третий сын ближнего боярина князя Никиты Ивановича Одоевского и Евдокии Фёдоровны Шереметевой 201.
Впервые упоминается в 1648 году, когда 5 апреля был пожалован в царские стольники 202. Служил при дворе царя Алексея Михайловича, участвовал в разных придворных церемониях и приёмах иностранных послов. 1649, фев. 27, на приеме Крымских послов — рындой в бѣломъ платье 203.
В 1654 году князь Алексей Никитич Одоевский в звании рынды (телохранителя) сопровождал царя Алексея Михайловича в первом походе на Великое княжество Литовское. В следующем 1655 году участвовал во втором царском походе на Литву, находясь в чине головы сотни стольников 204. Алексей Одоевский отличился во втором литовском походе и после возвращения в Москву получил в награду придачу к своему окладу. 15 декабря 1655 года князь Алексей Никитич Одоевский скончался и был похоронен в Троице-Сергиевой лавре 205.
Был женат на дочери князя Ивана Ивановича Ромодановского Ульяне Ивановне, от брака с которой имел дочь Феодосью (ум. 1677), которая вышла замуж за князя Ивана Григорьевича Куракина (ум. 1682)..
∞, КНЖ. УЛЬЯНА ИВАНОВНА ГОЛИЦЫНА, урожденная кнж. Ромодановская (* 1630‑е † 4.01.1692) 206. † 1692, янв. 4; погребена в Моск. Чудовом мон. 207. Ульяна Ивановна дочь кн. Ивана Ивановича Ромодановского — 1651 получила от отца в д. Носкове Владмр. у. 38 чет. 208. 1687 году, фев. в 23 день, князьям Михаилу и Борису Куракиным дано прожиточное поместье бабки их, вдовы княгини Ульяны, стольника князя Ивановой дочери Ромодановского, стольника князя Алексеевой жены Никитича Одоевского, — в Костр. у., в Нерехоцкой вол., 11 1/2 десят.; да приданых ее вотчин: в Костр . у., в — Хорчакове стану — сц. Яковлевское с пустошами; в Елецкой вол. — п. Юрцево, Збилево, Кокошкино ; в Пожевальском стану —д. Моклокова; Нерехоцк. вол. — д. Быкова ; в Суздальск. у., Стародубо-Ряполовского стана — сц. Алатырь; во Владимрск. у., Ерополческой вол. — сц. Носково, сц. Поддубье, — пашни 840 1/4 четвертей и 11 1/2 десятин» 209. Также: «1705 году февр. 23, имение вдовы князя Алексея Никитича Одоевского Ульяны Ивановны рожденной Ромодановской, в Костр. у., и т. д. (перечисление усадеб)..., дано внукам ее, кн. Борису и Михаилу Ивановичам Куракиным».
34/28. КН. ЯКОВ НИКИТИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 1630‑е † .08.1697)
Ближний боярин и воевода, дворецкий, наместник Костромской и Астраханский 210. Младший сын Яков «образовал свой ум, занимаясь изучением славянского языка и отличается более природной мудростию, нежели приобретенною учеными трудами» 211. Ему принадлежал певческий обиходник «демевственник» 212.
Князь Яков Никитич начал службу 1 октября 1653 г. в комнатных стольниках, исполняя обычные для спальников службы 213. В военных походах 1654 и 1656 гг. он с другими спальниками был ясаулом, «и за государем им же ездить», «вина наряжал» и чашничал перед государем, в 1657 г. был рындой «перед государем у саадака» 214. В 1656 г. князь Яков Никитич ездил в свите посольства на съезд с польскими комиссарами в Вильно; посольство возглавляли его отец и старший брат Федор. В связи с назначением на воеводство в Астрахань князю Якову Никитичу было сказано боярство 215. Во время астраханского воеводства (1663–1666) 216, по словам современника‑поляка, князь Яков Никитич «оправдал сие поспешное возвышение (пожалование боярства. — Генеограф) похвальным управлением» 217.
1668, июня 5, на церемонии проводов Вселенского Патриарха Макарія, был на 2‑й встрече и титуловался: ближним боярином и наместником Костромским 218. 1670 — 1, управлял Приказом Казанского Дворца 219. 1671, янв. 22, былъ «дружкой» на Царской свадьбе, а жена его — «свахой» с Государевой стороны 220. В связи с царской свадьбой начался известный конфликт Алексея Михайловича с боярыней Ф.П. Морозовой. Придворная боярыня была связана с родственниками первой жены Алексея Михайловича и, сославшись на болезнь, не явилась на свадьбу. В ответ на скрытое неповиновение боярыни царь заявил: «Един из нас одолеет всяко». Против нее было начато следствие по обвинению в приверженности дониконовскому обряду, о чем было хорошо известно и ранее. Дело дошло до пыток строптивой боярыни, которая только что тайно приняла постриг и не желала отказываться от своих убеждений. «Над муками» боярыни царь указал стоять своим ближним боярам князьям И.А. Воротынскому и Я.Н. Одоевскому. Царь и патриарх предложили сжечь Морозову на костре, но «бояре не потянули», то есть не санкционировали столь жестокую расправу над представительницей древнего боярского рода. Тогда Алексей Михайлович приказал тайно уморить боярыню и ее единомышленниц голодом.
1672—1674, фев. 2, был первым воеводой Астрахани 221. После разгрома разинского движения и сдачи мятежной Астрахани Алексей Михайлович был недоволен тем, как боярин И.Б. Милославский вел следствие против восставших. Царь послал ему на смену князя Якова Никитича, который прибыл в Астрахань в конце июня 1672 г. По словам очевидца, голландского офицера на русской службе Людвига Фабрициуса, князь Яков Никитич был безжалостный человек. <…> Свирепствовал он до ужаса: многих повелел кого заживо четвертовать, кого заживо сжечь, кому вырезать из глотки язык, кого заживо зарыть в землю. <…> Он нагнал на бедных людей такой ужас, что никто не осмаливался больше просить его за кого‑либо. <…> Он настолько привык к людским мукам, что по утрам ничего не мог съесть, не побывав в застенке. Там он приказывал, не жалея сил, бить кнутом, поджаривать, вздымая на дыбу. Зато потом он мог есть и пить за троих 222. По возвращении в Москву князь Яков Никитич получил от царя щедрую милость — 3 000 четвертей «дикого поля» в Епифанском уезде, что в три раза превышало норму для боярина. По грамотам 11 августа 1673 г., 20 февраля и 30 апреля 1674 г. князь Я.Н. Одоевский получил трижды по тысячи четвертей 223. Так Алексей Михайлович жаловал тех, кто «ходил не дуростию» своей, а «во всем желает от нас указу».
В 1676 году мы снова находим Одоевского в Москве, где он описывал казну и имущество, оставшееся по смерти царя Алексея Михайловича. В ночь воцарения Федора Алексеевича бояре кн. Н.И. и Я.Н. Одоевские выступили как первостатейные бояре, принимая присягу московских чинов в «Передней». Московские чины, которые не поспели к этой присяге, присягали позднее в Столовой уже одному кн. Я.Н. Одоевскому «с товарищи» 224. В 1677 году Одоевский был назначен судьей в приказ сыскных. дел, часто в отсутствие царя оставался во главе управления. Князь Я.Н. Одоевский ведал Москву на время царских отъездов из столицы. Во время одного из таких царских походов он вел следствие по обвинению боярина А.С. Матвеева в колдовстве. В сторожне при Архангельском соборе князь Яков Никитич «с товарищи» допрашивали холопа А.С. Матвеева, обвинившего своего господина в чернокнижии. Это дело и в дальнейшем осталось в ведении Якова Никитича, имевшего большой опыт дознания в застенке. Боярин И.М. Милославский инициировал все новые и новые дела против А.С. Матвеева и Нарышкиных, передавая их в комиссию князя Я.Н. Одоевского. Одновременно работала и вторая следственная комиссия во главе с боярином князем Ю.А. Долгоруковым. Возможно, существование двух комиссий отражало борьбу в Думе вокруг судьбы опального канцлера. Именно князь Ю.А. Долгоруков предлагал прекратить пытки и остановить колдовской процесс, охвативший десятки придворных 225.
В октябре 1677 г. князь Яков Никитич получил назначение возглавить посольство в Речь Посполитую. В декабре, с установлением зимнего пути, посольство выехало из Москвы 102. Об этом назначении сообщил И. Келлер в письме 1 ноября 1677 г. Боярин князь Я.Н. Одоевский и окольничий И.И. Чириков выехали из Москвы в декабре: подорожные И.И. Чирикову датированы 10 и 16 декабря 226. Летом 1678 г. в Москву приехало польское посольство. Переговоры с послами возглавили бояре князья Н.И. и Я.Н. Одоевские. 18 октября 1680 г. бояре князья Н.И. и Я.Н. Одоевские возглавили вновь созданную Расправную палату — орган высшего правосудия. 1681—3, управлял Приказами: Казанского Дворца и Стрелецким 227,.
В 1682 году был назначен судьей в приказе Казанского Дворца. По смерти царя Феодора Алексеевича Одоевский сохранил свое влияние на дела и мало помалу заменил своего уже престарелого отца; даже председательство в Расправной Палате начало переходить к нему, хотя официально он не был по главе ее до самой смерти Никиты Ивановича Одоевского, действительного главы ее. ближе всех к царевне Софье оказался боярин князь Яков Никитич Одоевский. Начиная с 20 мая, и в июне‑июле он часто относил вещи в хоромы Софьи Алексеевны, в том числе чулки 228. 24 июня он распорядился пожаловать сукна придворным, близким к Софье и Милославским: дядьке царевича Ивана — боярину князю П.И. Прозоровскому, боярину И.М. Милославскому, окольничему Б.Г. Юшкову, состоявшему при комнатах старших царевен, окольничему М.Б. Милославскому, думному дворянину В.С. Нарбекову, опре‑
деленному при комнатах младших царевен, в том числе и Софьи, спальникам царя Ивана — князю И.И. Хованскому, А.И., А.М., Л.С., С.И. Милославским (РГАДА, ф. 396, оп. 2, д. 730, л. 175 об.‑176 об.). По позднейшему свидетельству участника событий, во время расправ стрельцов над Нарышкиными в мае 1682 г., князь Я. Н. Одоевский, «по природе своей гораздо боязливый и весьма торопкий человек», прямо заявил царице Наталье Кирилловне, что выдать ее брата все же придется: «Сколько вам, государыня, ни жалеть, отдавать вам его нужно будет, а тебе Ивану, отсюда скорее идти надобно, ежели нам всем за одного тебя здесь погубленным быть» 229.
Несколько иначе излагает позицию князей Одоевских в придворной борьбе этого времени современник событий князь Б.И. Куракин. Он писал свою Историю о Петре сорок лет спустя не только по своим воспоминаниям, но и по рассказам вырастившей его бабушки княгини У.И. Одоевской. В 1682 г. умерли дед и родители князя И.Б. Куракина, и с того года в нашем сиротстве не оставила нас и дом наш бабка наша, княгиня Ульяна Ивановна Одоевская, супруга князя Алексея Никитича – сына князь Никиты Ивановича Одоевского, а мать нашей матери Федосьи Алексеевны. Могу об ней описать, что оная жена была великого ума и набожная и в остине от всех. В этой связи осведомленность князя Б.И. Куракина о семейных делах князей Одоевских несомненна. Накануне восстания царевна Софья как была принцесса ума великаго, тотчас взяла правление, а из бояр князь Яков Никитич Одоевской, которой все похороны токмо отправлял. Хотя многие бояре, как отец его князь Никита Иванович Одоевский и другие, но оные все первые бояре увидели интриги царевны Софьи Алексеевны, учинили себя неутральными и смотрели, что произойдет, чая от того замешанию великому 230. Князь И.Б. Куракин смягчил антинарышкинскую позицию князей Одоевских в решающий момент восшествия Петра на престол. В его изложении князь Н.И. Одоевский как глава Думы занимал самостоятельную выжидательную позицию.
Как бы то ни было, в годы регентства князья Одоевские сохранили свое придворное значение, примкнув к победившей придворной группировке. По свидетельству польского гонца, побывавшего в Москве в феврале 1683 г., наиболее влиятельными боярами в это время были И.М. Милославский, князья Я.Н. Одоевский, В.В. Голицын, М.А. Черкаский 231.
1683, дек. 2, по сдаче Казанского Приказа, назначен великим и полномочным послом на съезде с Польскими послами, писался наместником астраханским 232. 1689, фев. 25 — 1697, управлял Аптекарским Приказом 233. Осенью 1684 года князь Яков Никитич был отправлен на съезд с польскими комиссарами в Андрусово, для заключения вечного мира. В 1686 году князь Я. Н. Одоевский был назначен первым судьей в Аптекарский приказ.
После падения режима регентства согласованность действий князей Одоевских обернулась против них: они были слишком связаны с Софьей и царем Иваном, чтобы это можно было забыть. В 1691 г. князь Я.Н. Одоевский уступил руководство Расправной палатой боярину князю М.Я. Черкасскому 234 — своему зятю. Оставляя вынужденно столь важный пост, князь Яков Никитич сумел все же передать его представителю своей семьи. Составленная перед смертью духовная князя Я.Н. Одоевского не содержала столь же подробных наставлений родне, как духовная его отца. Видимо, князь Яков Никитич придавал послушанию домочадцев меньшее значение,
чем князь Никита Иванович. Перед смертью князь Я.Н. Одоевский обращал особое внимание на другие детали семейного боярского быта. В перечне икон, которыми он благословил своих родственников, князь Яков Никитич сообщал подробности, видимо, дорогие его сердцу. Своего внука князя Алексея Михайловича Черкасского он благословил иконой Богородицы Донской «обложен серебром в чекан моление прадеда моего князя Данила Семеновича Одоевского, что привез я из Добраго монастыря». Внуку князю Юрию Юрьевичу Одоевскому завещал благословение: «образ Спасов стоящей, оклад резной в киоте, которым благословил меня отец мой боярин Аникита Иванович старое моленье деда ево, а моево прадеда князя Никиты Романовича Одоевского». Внуку князю Алексею Юрьевичу Одоевскому боярин передал «образ Спасов, обложен серебром в чекан в деревянном киоте, которым благословил меня, отходя сего света, отец мой боярин князь Аникита Иванович моление дяди ево, а моево деда, боярина князя Ивана Меншова Никитича Одоевскаго» 235. Похоже, что князь Яков Никитич ощущал себя хранителем семейной традиции и не хотел, чтобы она прервалась с его кончиной. Особенно трогательно его участие в судьбе иконы, вывезенной им лично из родового Добренского монастыря в Лихвине, где до середины XVI в. располагалось удельное владение князей Одоевских.
Князь Яковъ Никитичъ настолько былъ близок с Царским семейством, что ему, напр., было поручено какое-то самое интимное семейное дело, о котором находимъ такие подробности: «Послан он в Ростов для тайного дела Государя и для сыску: велено разспросить Алексеевскую жену Мусина-Пушкина Арину (с которой Царь Алексей Михайлович был в очень интимных отношениях) и велено пытать ее накрепко. Ирина Михайловна, урожд. Еропкина, была женой Алексея Богдановича Мусина-Пушкина, мать возведённого в графское достоинство Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, которого Петр Великий не называл иначе, как своим братом). Результатом сыска было то, что ее отправили в Вологду (князь Яков Никитич ее и провожал), а двух портных из с. Вырюпина — казнили: одному вырезали язык, а другому отсекли голову 236.
Умер князь Я. Н. Одоевский уже в царствование Петра Великого, в августе 1697 года.
1656, получил от тестя в приданое за женой — Моск. у. сц. Давыдовское, пуст. Грязново, Взманово, Крутую, всего 100 четв. 237. 1657, авг. 28, «тесть его (кн. Якова), кн. Михаил Петр. Пронской, дал ему за дочерью своей, девицей княжной Анной, в приданое: Моск. у. сц. Новосильцево с пуст. — 164 1/4 четв. 238. 1661, авг. 14, дано ему, по духовной деда его — боярина Федора Ив. Шереметева, в вотчину: Моск. у. с. Богородское, что была дер. Ладыгина, с деревн.: Поливанова, Реткина , Прудки, Демина и Юсупова. 1684, он отдал эту вотчину в приданое дочери своей кж. Анне Яковлевне при выходе ее замуж за кн. Дм. Мих. Голицына 239.
∞, КНЖ. АННА МИХАЙЛОВНА ПРОНСКАЯ, дочь князя Михаила Петровича Пронского; последняя в роде.
35/28. КНЖ. ПРАСКОВЬЯ НИКИТИЧНА ОДОЕВСКАЯ (†15.06.1656)
При выходе замуж получила от деда — боярина Федора Ив. Шереметева — с. Воскресенское (Васильево), Моск. у., которое от нея перешло потом ее родному брату кн. Федору Никитичу, за которым И было утверждено в 1656 г. 240. 1648, он же (бояр. Ф. И. Шереметев) дал за ней в приданое Моск. у. дер. Лодыгину, что в 1656 г. было передано брату ее родному кн. Якову Никитичу О. 241.
† 1656, июня 15; погребена 8 июля т. г. в Троице-Сергиев. Лавре 242.
У кн. Долгорукова (I, 55) взамен Прасковьи Никитишны
поставлена Марфа Никитишна, что составляет большую ошибку, т. к. Марфа — не Никитишна, а Яковлевна, бывшая за кн. Мих. Яковл. Черкасским — была не сестрой Якова Никитича, а его дочерью, как это и будет видно далее.
∞, 1645, КН. ГРИГОРИЙ СУНЧЕЛЕЕВИЧ ЧЕРКАССКИЙ († 14.10.1673), убит своей прислугой. 243
XXIV генерація від Рюрика
36/31.34 КН. ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* рубеж 1650‑х † 6.12.1685)
сын князя Михаила Никитича. Боярин и воевода, наместник Рязанский 244.
Упоминается с 1660 года, когда он в чине стольника, участвовал в приеме Грузинского Царевича Николая Давидовича, за обедом «смотрел в большой стол». 245. В 1668 году был пожалован в комнатные стольники и до 1673 года был при дворе; по своему чину он был очень близок к царю и почти все время проводил при царе Алексее Михайловиче. 1671, янв. 22, участвовал в числе поезжан на свадьбе Государя 246. В 1673 году князь Ю. М. Одоевский бил назначен судьей в Судно-Владимирский приказ; в марте 1674 года был отправлен, вместе со своим дедом, князем Никитой Ивановичем Одоевским, на съезд с польскими комиссарами в Андрусово 247. По смерти царя Алексея Михайловича, 8 июня 1676 года князь Юрий Михайлович был пожалован в бояре 248. В этот же день спальником стал князь И.Г. Куракин, женатый на внучке боярина кн. Н.И. Одоевского – Федосье Алексеевне 249.
Около 5 февраля 1678 г. боярин князь Ю.М. Одоевский вместе с двумя сыновьями выехал из Москвы на воеводство в Новгород 250. Монахи Успенского Тихвинского монастыря поднесли боярину князю Ю.М. Одоевскому «от веряжского дела 20 рублев да детем двоим поднесена крушка, да голова сахару, все дано рубль 251. Видимо, воевода взял с собой старших сыновей князя Михаила Большого и князя Михаила Меньшого. Челобитчики быстро оценили характер нового воеводы: зело человек стропотен, <…> и применитце к ево нраву неведомо как. Сперву показался, бутто не емлет, а ныне, хто принесет, знатно, что не откинет, а дьяки в нем волны, не так как при Урусове (прежнем воеводе.— Генеограф). По отзывам челобитчиков, воевода был «человек своенравной, в малом <…> чем прогневишь, а и болшим гневу не утолишь»; «боярин рьяной, никоими мерами сроку упросить немочно» 252. Отзывы о князе Ю.М. Одоевском помогают понять, почему он не играл первостепенной роли при московском дворе.
Князь Юрий Михайлович тяжело болел и мало вступался в дела: «боярин <…> в приказе не бывает и ко владыке на благословение не ходит, а на дворе никоими мерами побить челом немочно, потому что боярин немощен, а дела всякие делают дьяки» («в началниках правды не стало, дьяки все заведают, а до боярина дойти немочно»; «боярин в приказ не бывает, а дьяки что захотят, то и делают» (Там же, д. 2806, л. 92, 93). Для лечения боярина из Москвы был «наскоро» послан царский доктор Л. Блюментрост. По возвращении в Москву князь Ю.М. Одоевский продолжал получать лекарства из царской аптеки «для ево болезней» 253 и в 1678 году отправлен первым воеводой в Новгород, где воеводствовал до 1680 года. Князь Ю.М. Одоевский был назначен в Расправную палату 21 декабря 1680 г., но уже 8 августа 1681 г. выведен из ее состава «для болезни» 254. После этого, до самой его смерти мы имеем о нем лишь одно известие, относящееся к 1682 году, когда он участвовал в соборе, собранном для обсуждения вопроса об уничтожении местничества 255.
Умер князь Ю. М. Одоевский 6 декабря 1685 года и похоронен был в Троице-Сергиевской лавре 256.
1661, с матерью своей, княг. Марфой Ивановной, купил у Дм. и Тих. Молчановыхъ пуст. Захарову, Моск. у. 257.
Внуки князя Никиты Ивановича также были людьми книжными. В 1679 г. боярин князь Юрий Михайлович, проезжая через Иверский монастырь, получил от братии в подарок две книги монастырской типографии: Рай и Брашно 258. В первой половине 1680‑х годов князь Юрий Михайлович сделал вклад в церковь Знамения, «что на его дворе» — сборник новгородских агиографических произведений 259.
Ж., КНЖ. АНАСТАСИЯ ФЁДОРОВНА ХВОРОСТИНИНА ( * сер. XVII в., † 15.04.1707), дочь кн. Фёдора Юрьевича Хворостинина и Елены Борисовны Лыковой-Оболенской (в 1‑м браке за Шереметевым), внучка КН. Бориса Михайловича Оболенского 260. 1665, мать ея, княгиня Ел. Бор., дала за ней в приданое Переясл.-Залесск. у. с. Заозерье; деревни: Чурилово, Захарьевскую, Федякову, Труфаново и др., всего 1598 четв. 261. 1674, окт. 1 и 8, была приглашаема Царицей к обеденному столу последней (названа «Авдотьей» Федоровной) 262. 1686, муромские вотчины князя Юрия Мих. О. даны жене его, вдове Настасье Федоровне с сыновьями, кн. Михаилом, Алексеем, Юрием и Феодором» 263. 1692, «вдова кн. Юрия Михайловича О., княгиня Настасья Федоровна, вотчину свою — Галиц. у. д. Рогачево, Петраково и др., отдала в приданое за дочерью своей, княжной Авдотьей, кн. Мих. Владим. Долгорукову 264. † 1707, апр. 15; погр. в Тр.-Серг. Лавре 265.
37/32. КН. СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ († 1666)
Стольник. В 1660‑е годы на придворную службу вступало следующее поколение
семьи князей Одоевских — внуков князя Никиты Ивановича. Князья Степан и Василий, дети умершего князя Федора Никитича, были определены в стольники наследника престола Алексея Алексеевича 266, точно также как их отец служил в стольниках царевича Алексея Михайловича.
† 1666, апр. 16, безд.; погреб, в
Троицком соб. Тр.-Серг. Лавры 267.
1657, с матерью, княг. Софьей Ивановной, и братом, кн. Василием, получил имения отца 268. С братом кн. Василем наследовал с. Воскресенское (Василево), Моск. у. 269. 1664, с братом Василмем получили от бабки родной кн. Ирины Григорьевны Катыревой-Ростовской Алексине, у. в с. Рождественском и в дд. Климовой и Лодыгиной 208 чет. 270.
б/д
38/32. КН. ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (*1654 † 20.12.1686)
сын князя Федора Никитича, боярин и дворецкий 271.
В 1660‑е годы на придворную службу вступало следующее поколение семьи князей Одоевских — внуков князя Никиты Ивановича. Князья Степан и Василий, дети умершего князя Федора Никитича, были определены в стольники наследника престола Алексея Алексеевича 272, точно также как их отец служил в стольниках царевича Алексея Михайловича. В апреле 1666 г. князь Степан Федорович умер 273, а князь Василий Федорович стал заметной фигурой в комнатах наследника престола. Это было связано не только с незаурядными личными качествами князя Василия, но и с покровительством окольничего Ф.М. Ртищева Большого, воспитателя («дядьки») царевича Алексея Алексеевича. На дочери Ф.М. Ртищева — Акулине князь Василий Федорович женился в августе или сентябре 1668 г. 274. В связи со смертью царевича Алексея Алексеевича князь В.Ф. Одоевский был переведен в стольники следующего по старшинству царского сына — Федора Алексеевича 275. Эта служба при наследнике престола стала залогом возвышения князя Василия Федоровича и всей семьи князей Одоевских в годы царствования Федора Алексеевича.
Упоминается впервые в 1675 году в звании стольника в свите царя Алексея Михайловича; 9 мая 1676 года князю Василию Федоровичу был пожалован чин кравчего с путем и дан довольно большой по тому времени оклад — 350 рублей, а в боярских книгах и списках приказано было писать его выше окольничих, так как кравчество он получил «с путем» 276. 25 июля царь указал князя В.Ф. Одоевского писать в боярских списках выше окольничих «для того, что он тое честью пожалован с путем» и ему был назначен высокий оклад 350 рублей 277. Кравчий князь Василий Федорович принадлежал к узкому кругу комнатных людей, заступничеством которых царь жаловал в московские чины. 18 сентября 1676 г. князь В.Ф. Одоевский «сказал» указ о пожаловании И.И. Лихарева в стольники 278. 30 января 1677 г., в дни царской болезни, он «принял в Передней» скроенные для государя подушки 279. В июне – июле 1677 г. извещал письмами из государевых походов в Москву о царских указах относительно назначений думных людей, о присылке лекарств для Федора Алексеевича 280.
После этого мы его видим при дворе царя Федора Алексеевича, где он занимал довольно видные посты: с 1678 года вместе с своим дедом, боярином князем Никитой Ивановичем, заседал в Аптекарском приказе; 9 марта 1680 года был пожалован в бояре и получил высокий сан дворецкого, причем был поставлен во главе управления приказами Большого дворца, денежного сбора, хлебного и судно-дворцового, к которому были присоединены оружейная, золотая и серебряная палаты. Всеми этими палатами и приказами Одоевский управлял до самой своей смерти, причем не переставал управлять и Аптекарским приказом, в котором производил, вместе с известным в то время западником и приверженцем всего иноземного дьяком Андреем Виниусом, целый ряд улучшений, вызывал новых врачей из-за границы и постоянно поддерживал с иноземцами близкие сношения.
Поддержка князьями Одоевскими действий И.М. Милославского проявилась и осенью 1677 г. По окончании похода русской армии к Чигирину в Думе обсуждался вопрос о том, кому из воевод должны достаться главные лавры победителя. Бояре «разделишася пополам»: одни стояли за боярина князя В.В. Голицына, а другие за боярина князя Г.Г. Ромодановского. В решающий момент обсуждения боярин И.М. Милославский высказался в пользу кн. В.В. Голицына. Этого же мнения придерживался и кравчий князь В.Ф. Одоевский. Его дед князь Никита Иванович присутствовал на заседании, но прямых данных о его мнении по данному вопросу не сохранилось 281. Однако, вряд ли внук высказывался на думском заседании против своего деда. По возрасту никто из князей Одоевских не годился в спальники царя Федора, и влияние семьи в царской комнате поддерживал в первую очередь кравчий князь В.Ф. Одоевский. 12 ноября 1677 г. он «взял и отнес» в царские хоромы лекарства 282. В следующем месяце кравчий воспользовался царской милостью и получил из казны церковную утварь для своей дворовой «церкви на воротах». 19 января 1678 г. он «сшод сверху» приказал лечить доктора Л. Блюментроста 283.
В августе 1678 г. оттоманская армия захватила Чигирин, предрешив тем самым исход всей войны. В эти тревожные дни царь отправился молиться во Флорищеву пустынь, и кравчий князь В.Ф. Одоевский сопровождал его. С дороги кравчий написал письмо в Москву своему дяде боярину князю И.А. Воротынскому с изложением царского указа о мероприятиях по обороне Киева от возможного турецкого нападения 284. Примечательно, что именно кравчему князю Василию Федоровичу царь доверил известить оставленных в столице бояр и патриарха о своих предложениях по этому важнейшему вопросу тех дней. По возвращении в Москву кн. В.Ф. Одоевский стал активно вмешиваться в дела военного управления. 7 ноября 1678 г. «цесарские земли иноземец» предложил ему перевооружить русскую пехоту новыми ружьями. Это предложение кравчий донес царю и получил разрешение выделить 100 стволов для проведения эксперимента. Из затеи ничего не вышло, но этот эпизод указывает на активное стремление кравчего князя Василия Федоровича заниматься делами высшего государственного управления 285.
27 апреля 1680 г. боярин князь Н.И. Одоевский, его сын Яков и внуки князь Ю.М. Одоевский и В.Ф. Одоевский подали челобитную о пожаловании им «родительского наследия» вотчин князей Воротынских. В связи со смертью последнего в роде князей Воротынских князья Одоевские претендовали на их вотчины, обосновывая свои права тем, что Василий III пожаловал часть города Одоева прадеду князя Н.И. Одоевского — князю И.М. Воротынскому. В челобитной упомянуто владение князем И.М. Воротынским городами Новосилем и Чернью с уездами, Стародубом Ряполовским и Перемышлем.
Эти удельные воспоминания позволяют оценить представления князей Одоевских об их статусе при московском дворе. Служба в царских спальниках не истребила память о великом прошлом своего рода, которому после пресечения рода князей Воротынских не осталось ровни среди московских бояр. Просьба князей Одоевских не была удовлетворена: видимо, ее сочли чрезмерной для рода и так обладавшего крупнейшими земельными богатствами. Объединение родовых вотчин двух первостатейных боярских семей, да еще по праву удельной старины, грозило превратить князей Одоевских в магнатов на манер Речи Посполитой 286.
Эта упущенная возможность направляла деятельность князей Одоевских в привычное для них русло придворной службы. В царских комнатах они обретали влияние, которое в XVII веке ценилось не меньше, чем удельные воспоминания. 9 мая 1680 г. кравчий с путем князь В.Ф. Одоевский был пожалован в бояре 287. 13 августа 1680 г. боярин князь В.Ф. Одоевский отнес царю лекарство, которое врач советовал «обмоча платок, толко не кисейной, вчетверо и приложить к болному оку, привезав к тому платом, а как высохнет тот платок, опятьнамоча приложить днем 5 или 6 или болши по изволу» 288. 8 мая 1681 князь В.Ф. Одоевский был пожалован в дворецкие на место умершего царского «шептуна» боярина Б.М. Хитрово 289). Видимо,у князя В.Ф. Одоевского были дружеские отношения с Б.М. Хитрово. В 1680 г. челобитчики пытались добиться милости у царя через заступничество у князя В.Ф. Одоевского, которого просили доложить государя «при Богдане Матвеевиче» 290. Отныне ему полагалось везде сопровождать государя и уже 12 мая того же года началось строительство в загородной царской резиденции селе Воробьеве «двора, где стоять» князю Василию Федоровичу 291. 21 февраля 1682 г. он объявлял царю гостей и посадских людей, явившихся «с подносом» по случаю царской свадьбы 292. Возможность угодить государю была вернейшим средством заслужить царскую милость. 29 февраля 1680 г. «по приказу» князя В.Ф. Одоевского «к его государеву терскому аргамаку отданы подковы серебряные» 293.
В 1682 году князь Василий Федорович участвовал в соборе об уничтожении местничества и подписался под деянием этого собора. По смерти царя Федора Алексеевича, Одоевский подвергся большой опасности погибнуть во время стрелецкого бунта, так как на него доносили толпе, будто он говорил, «что стрельцов вешать и казнить и рубить». Однако он сохранил свое положение и в правление царевны Софьи и был в свите царя Иоанна Алексеевича, которого сопровождал во всех его поездках по монастырям и пустыням. На близость боярина князя В.Ф. Одоевского к Милославским указывает поручение ему в 1683 г. «сметить» постройки и, «доложа великих государей», достроить их в родовой обители Милославских — московском Знаменском монастыре 294. 25 ноября 1684 г. среди шести комнатных бояр, слушавших посольский статейный список, двое были из семьи Одоевских: князь Никита Иванович и князь Василий Федорович 295.
До своей смерти 14 декабря 1686 г. князь Василий Федорович был не только дворецким, то есть возглавлял приказ Большого дворца и связанный с ним Судный дворцовый приказ, но вместе с дедом князем Н.И. Одоевским руководил еще и Аптекарским приказом 296. Эти ключевые дворцовые должности позволяли ему занимать самостоятельную позицию даже по отношению к боярину князю В.В. Голицыну — «столпу» режима регентства. В январе 1683 г. он сказал датскому послу, что Россия поддержит Данию в войне против Швеции, хотя присутствовавший здесь же глава Посольского приказа князь В.В. Голицын дипломатично уклонился от прямых заявлений 297. Накануне кончины князь В.Ф. Одоевский совершал богомольные шествия по монастырям: в июле–августе 1685 г. он «поехал по монастырем молитца» 298. В письме из Москвы в Новгород 8 ноября 1686 г. иверские монахи сообщали, что князь В.Ф. Одоевский «гораздо скорбен, и лекари лечит покинули потому, что у него печень гниет и идет не к живому, но к смерти» 299. 14 декабря того же года он скончался. В августе 1687 г. умерла и его вдова Акулина Федоровна 300. Похоронен в Троице-Сергиевской Лавре 301.
Владелецъ после отца Моск. у. сц. Ивановского с дер. Губкиной. В сц. построили, церковь, после чего оно стало называться селом. С. Воскресенское
(Василево), Моск. у., по духовн. завещ. († 1687) отказал жене своей княг. Акулине Федоровне, с тем, чтобы после смерти ее, оно поступило его племянникам, — князьям Михаилу, Юрию, Василию и Алексею Юрьевичам Одоевским 302.
∞, АКУЛИНА ФЁДОРОВНА РТИЩЕВА († 3.08.1687), д. Федора Михайловича Ртищева 303. Владѣла после мужа сел. Прусы и пуст. Степанковой, Моск. у. 304. 1687 — того же у. с. Ивановскимъ , с дер. Губкиной, которые в 1704 перешли к князьям Михаилу и Василию Юрьевичам Одоевским 305. 1687, янв. 11, ей дано на прожиток из поместий мужа ее, в Моск., Данков., Елецк. и Шацком уу. 2430 1/4 четв. 306. 1687, авг. 29, вотчины ея, отказаны деду ее мужа, кн. Никите Ив. Одоевскому 307. † 1687, авг. 3; ее отпевал сам Патриарх, 4 авг. 308.
39/33. КНЖ. ФЕДОСЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ОДОЕВСКАЯ (* 1650‑е † 25.08.1667)
Дед ее, кн. Никита Ив. Одоевский и мать ее, княг. Ульяна Ивановна, дали за ней въ приданое кн. Ив. Гр. Куракину: Костромск. у. с. Поздеевское, с деревнями и пустошами, и Суздальск. у. с. Петровское, — всего 218 4 четв. 309.
† 1667, авг. 25. 310.
∞, КН. ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ КУРАКИН (* конец 1640‑х, † 25.09.1682), боярин 311.
40/34. КНЖ. АННА ЯКОВЛЕВНА ОДОЕВСКАЯ († 18.10.1750)
1684, при выходе ея замуж за кн. Дм. Мих. Голицына, отецъ ея далъ за ней въ приданое вотчину свою, Моск. у. с. Богородское (д. Лодыгина), с дер. Поливановой, Реткиной, Прудками, Деминой и Исуповой, 119 четв. 312. † 1750, окт. 18; погреб, в Богоявленском мон. 313.
∞, 1684, КН. ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОЛИЦЫН (* 3.06.1665, † 14.04.1737). Род. 1665, июня 3, † 1738, апр. 14, казненъ отсечением головы 314.
41/34. КНЖ. ДОМНА ЯКОВЛЕВНА ОДОЕВСКАЯ
1671, ей, княжне Одоевской, бабка ее, княг. Евдокія Федоровна Одоевская, завещала образ 315.
42/34. КНЖ. МАРФА ЯКОВЛЕВНА ОДОЕВСКАЯ (* 2‑я треть XVII в.† 1699)
1667, отец ее, кн. Яков Никит. Одоевский, дал ей в приданое Моск. у. с. Троицкое 316, а 1677 — Моск . у. сц. Новосильцево 317. С. Борисоглебское, Костром. губ.,
Нерехт. у., принадлежавшее отцу ее, как приданое, было отдано ей же. 318.
∞, КН. МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ЧЕРКАССКИЙ (* 2‑я четв. XVII в., † 28.06.1712), его 2‑ая жена.
XXV генерація від Рюрика
49/36. КНЖ. МАРИЯ ЮРЬЕВНА ОДОЕВСКАЯ (1671)
1671, она — старшая из всех детей кн. Юрия Мих. — по дух. завещ. прабабки своей, кн. Евдокии Федор. Одоевской, получила серебряный образ 319.
43/36. КН. МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ БОЛЬШОЙ ОДОЕВСКИЙ (* около 1670, † 26.02.1743)
Гвардии подполковник и командующий дивизией, сын Юрия Михайловича 320. В придворных группировок после смерти Федора Алексеевича князья Одоевские придерживались уже проверенной линии поведения. В первую очередь они стремились удержаться в царской комнате. Однако в целом клан князей Одоевских держал сторону Милославских.
В 1682 на четвертый день нового царствования в спальники царя Петра были пожалованы трое князей Одоевских, детей боярина князя Юрия Михайловича: князь Юрий, князь Михаил и князь Василий 321. В 1688–1689 гг. сопровождал царя в поездках к Троице 322. В 1698 г. поручик Семеновского полка 323. С 1721 г. в чине гвардии подполковника был назначен начальником армейской дивизии 324.
1671, получает по завещ. прабабки своей, княг. Евдок. Федор. О., серебряный образ 325. По духовн. завещ. кн. Вас. Федор. Одоевского, получил, с братьями князьями Юрием, Василием и Алексеем, подмосковные вотчины; 1704, с брат. кн. Василием, владел с. Ивановским, Моск. у. 326. 1730, июня 11, за ним справлено 3/4 поместий брата его кн. Алексея Юрьевича 327.
∞, 1°, 1687, ДАРЬЯ МАТВЕЕВНА МИЛОСЛАВСКАЯ, дочь бояр. Матвея Богдановича Милославского. Женился в 1687 г. и получил въ приданое: Арзамас, у. дер. Старую (Кеншово) 328.
∞, 2°, ЕВДОКИЯ ..... ..... 329.
44/36. КН. МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ МЕНЬШОЙ ОДОЕВСКИЙ (1671)
1671, по духов. завещ. прабабки своей, кн. Евдок. Федор. Одоевской, получает серебряный образ 330.
45/36. КН. ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ (*1672-?)
Генерал-адъютант в 1721–1722 гг. Родился в 1672
Князь Никита Иванович Одоевский оказывал заметное влияние на воспитание не только своих сыновей и внуков, но даже и правнуков. В своей духовной 1689 г. он с гордостью писал, что взял к себе в дом своего правнука князя Юрия, сына боярина Юрия Михайловича и дал ему образование: «Правнука своего князя Юрья Юрьевича взял яз у отца ево <…> за сына место шти лет, вскормил ево и выучил» 331. Княжич Юрий Юрьевич перешел жить на двор своего прадедушки в связи с отъездом отца на воеводство в Новгород в 1678 г. Князь Ю.Ю. Одоевский родился в 1672 г., и к 1678 г. ему как раз исполнилось шесть лет 332. Вслед за тем правнуки князя Н.И. Одоевского продолжили образование в Славяно‑греко‑латинской академии 333.
В придворных группировок после смерти Федора Алексеевича князья Одоевские придерживались уже проверенной линии поведения. В первую очередь они стремились удержаться в царской комнате. На четвертый день нового царствования в спальники царя Петра были пожалованы трое князей Одоевских, детей боярина князя Юрия Михайловича: князь Юрий, князь Михаил и князь Василий 334. Однако в целом клан князей Одоевских держал сторону Милославских. 1689—90, Сопровождал Государя в его поездках к Троице. 335. 1721—2, Генерал-Адъютант 336. 1722 г. январь, «ген.-адъютантъ князь Юрья княжъ Юрьевъ сынъ Одоевскій, 50 лѣтъ, крестьянъ въ московскомъ уѣздѣ и въ другихъ городахъ 1363 двора. Дѣтей у него нѣтъ. На сенатскомъ смотру не был. Умер».
По духовному завещанию кн. Василия Федор. Одоевского, с братьями, князьями Михаилом, Василием и Алексеем Юрьевичами, получили подмосковные имения первого, при чем на долю кн. Юрия Юрьевича досталось с. Воскресенское (Василево), Моск. у.; в 1706 онъ продалъ его Федору Матв. Апраксину 337. 1722, янв., Генер.-Адъютант, имел 1363 двора в Московск. и др. уу.
∞,1°, 13.02.1685, КНЖ. ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ГОЛИЦЫНА (1671–1709);
Род. 1671, †1709, апр. 7; погреб. в Троице-Серг. Лавре 1709, мая 5 338.
∞, 2°, 1712, АННА ГРИГОРЬЕВНА ГОДУНОВА, д. окольничего Григ. Петр, и Марф. Афан. Годуновых 339. 1721, полученную ею от отца ее вотчину, — Коломенск. у. е.- Мокеево, д. Нащокину, Патрикееву и п. Заволье , 898 1/8 четв. — заложила Воронцовскому 340.
б/д
46/36. КН. ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 1673 † 16.10.1752)
действ. статский сов., руководитель Оружейной палаты, сын боярина князя Юрия Михайловича Одоевского. В придворных группировок после смерти Федора Алексеевича князья Одоевские придерживались уже проверенной линии поведения. В первую очередь они стремились удержаться в царской комнате. На четвертый день нового царствования в спальники царя Петра были пожалованы трое князей Одоевских, детей боярина князя Юрия Михайловича: князь Юрий, князь Михаил и князь Василий 341. С 1682 комнатный стольник царя Петра I.
У князя Якова Никитича не было сыновей, и после его смерти в августе 1697 г. род продолжился от детей боярина князя Юрия Михайловича, которые не смогли заслужить доверие Петра, несмотря на их службу в спальниках. В результате, в петровскую эпоху князья Одоевские уже не занимали первых постов в государстве. Их судьба в XVIII в. удостоилась ироничных замечаний в знаменитых «Записках» князя Петра Долгорукова. По его словам, князь Василий Юрьевич Одоевский «был жалкой личностью, а его жена, несмотря на знатность рождения и солидное богатство, отличалась при дворе своим подобострастием». Когда ее дочь была сослана за участие в дворцовом заговоре, она осмелилась было просить у Елизаветы Петровны помилования. Получив отказ, семидесятилетняя княгиня Одоевская «грохнулась на колени с воплем: “Виновата, матушка, это я так сдуру”».
В 1698 поручик Семеновского полка. 1698, поручик, 1709 капитан-поручик и 1714 капитан Лейб-Гвардии Семеновского полка; 1714, вышел из военной службы 342. 1722 г. января 10. Князь Василій княжъ Юрьевъ сынъ Одоевскій, 49 леть, крестьянъ 619 дворовъ, у дѣлъ при адмиралтействѣ и въ мастерской палатѣ и на казенномъ дворѣ у описи Его И. В. вещей и прочей казны. Дѣтей у него: князь Иванъ, служить въ морскомъ флотѣ гардемариномъ. Февраля 27-го 722 г., съ смотра сенатскаго, отмѣчень: быть по прежнему, а въ 726 г. апрѣля 5 пожалованъ въ д. ст. совѣтники. 1722.01.18, будучи в чине полковника, Одоевский был представлен в числе других кандидатов на должность президента штатс-конторы, назначение не состоялось, и Одоевский состоял при делах Адмиралтейств-коллегий. 1723, снова полковникъ и гв. капитан, член Московской Адмиралтейств Конторы 343. 1726.04.05 произведен в действительные статские советники 344 1726, дек. 23, назначен в Москву к делам Мастерской Палаты и заведующим Оружейной Палатой, Казенным Приказомъ и Конюшенной Казной [Баран., I, 83, № 950 и ІІ, 47, № 1999.)). В 1727 вместе со стольником Афанасием Савеловым Одоевскому было поручено произвести опись всего имеющегося в московской Оружейной палате, на конюшенных и казенных дворах и в Мастерской палате. После коронования Петра II Одоевскому были сданы на хранение императорская корона и регалии.
Вотч.-Арзамасский у., Иржинский ст., д.Кузоряго, 3/5 <избы нищих>, 94/164, там же с. Мечасово, дв. вот., 64/226, там же Тешский ст., с. Новоархангельское, Туркуши тож, 33/161, Вологодский у., Березицкая вол., д. Боровиково, 19/51, Кашинский у., Дубенской ст., сцо Нижнее Глухово, дв. вот., дв. скот. 2 ч., 16/82, Московский у., Молоцкий ст., д. Гаврилково, 11/21,там же Сосенский ст.,с. Ивановское, дв. вот., дв. скот. 2 ч., 26/83. 1704, с братом Михаилом Юрьев., владел с. Ивановскимъ, Моск. у. По дух. завещ. кн. Вас. Федор. Одоевского, получил, с братьями кн. Юрием, Михаилом и Алексеем, его подмосковный вотчины 345. 1722, янв. 10, крестьян за нимъ 619 дворов 346.
∞, КНЖ. МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЛЫКОВА (* 1672 † 16.10.1752), дочь князя Алексея Алексеевича Лыкова-Оболенского.
47/36. КН. АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1686, †1730)
комн. стольник (1706,1710), пятый сын Юрия Михайловича и Анастасии Федоровны 347.
1695 , авг. 15, пожалованъ въ Комнатные стольники 348. 1708—9, был во втором Донецком пох. в полку кн. Вас. Владим. Долгорукова 349.
По духовн. завещ. кн. Вас. Федор. Одоевского, получил вместе с братьями кн. Михаилом, Юрием и Василием, подмосковные имения завещателя 350. 1700, июнь 26, получил приданое жены своей — Моск. у. в с. Ивановском, сц. Стехине и д. Стрелковой 351. 1730, июня 11 из его имений часть справлена за вдовой его кн. Авдотьей, a 3/4 переданы старшему его брату, кн. Михаилу Юрьевичу 352. Вотч. Владимирский у., Жегловская вол., с.Алексино, дв. вот. 4 ч., 26/137, Московский у., Бохов ст.,с. Болшево, дв. вот., 3 дв. кон., 10 ч., дв. скот., 26/107,там же Доблинский ст., д.Ивашково, 28/121.
∞, 1699, Евдокя Ивановна, ур. кж. Лыкова, д. кн. Ивана Григорьевича и княг. Авдотьи Лыковых. Сузд. ст. кн. 2. д. 53.)). 1699, при выходе замуж за кн. Алексея Юрьевича, получила от упомянутых родителей в приданое — Суздальск . у. с. Назарьево 353. 1728, июня 28, не велено высылать кн. Евдок. Ивановну О. на житье в Петербург 354. 1756, окт. 4, дозволено ей передать родовое имение князей Лыковых, племяннику ее — кн. Ив. Вас. Одоевскому 355.
48/36. КН. ФЁДОР ЮРЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ * ...., 1686, † ....)
1686, при переходе имений кн. Юрия Mиx. О. к сыновьям, он упоминается между ними 356.
50/36. КНЖ. ЕВДОКИЯ ЮРЬЕВНА ОДОЕВСКАЯ (* 1675 † 16.04.1729)
Род. 1675 357.
1692, кн. Наст. Федор. Одоевская вотчину свою — Галицкого у дд.: Рогачево, Петраково, Дорок, Фокино, Лихарево и др. отдала кн. Мих. Владим. Долгорукову, в приданое за дочерью своей, кж. Евдокией 358.
† 1729 , апр. 16; погреб, в Богоявленском мон. 359.
∞, КН. МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ДОЛГОРУКОВ (* 14.11.1667 † 11.11.1750), дейст. ст. советник. Род. 1667, нояб. 14, † 1750, нояб. 21; погреб. в Богоявленском мон. 360.
XXVI генерація від Рюрика
51/43. КН. ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* рубеж 1700‑х, † 1749)
Генерал-майор, первый сын Михаила Юрьевича Михайловича Большого 361.
1712, июня 16, недоросль, послан в Ревель учиться немецкому яз. 362. 1722, числился в списке дворян 363.
† 1749 364.
Был владельцем с. Ивановского, Моск. у. 365
∞, Мария Степановна ..... 366.
52/43. КН. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 1702, † 19.021775)
второй сын Михаила Юрьевича Михайловича Большого 367; действительный статский советник, президент Вотчинной коллегии.
В 1716 г. поступил гардемарином и послан на учебу в Англию. В 1721 г. произведен в унтер-лейтенанты. В конце 1725 года он был гоф-юнкером. Пожалованный несколько лет спустя в камер-юнкеры, кн. Одоевский 8 сентября 1732 года был назначен советником вотчинной коллегии и в этой должности оставался почти шесть лет, причем 17 декабря 1733 года был произведен в статские советники. В 1735 г. уволен из флота по болезни. 17 июля 1738 года он был назначен советником Дворцовой конторы, а через два года президентом Вотчинной коллегии. Сведений о дальнейшей судьбе его не сохранилось. Известно лишь, что 21 января 1741 года он был произведен в действительные статские советники 368.
† 1775 369. Похоронен с. Ивановское Подольск.-у. Моск.губ., в Введенской церкви.
∞, ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА РЖЕВСКАЯ (?-1754), д. Президента Вотчин. Коллегии Александра Тимофеевича и Анны Михайловны (ур. Прончищевой) Ржевских 370. 1738, мать ее дала за ней в приданое — Моск. у. с. Знаменское 371. 1756, родители, ее дали внукам своим, сыновьям дочери их кн. Дарьи Ал. Одоевской, — кн. Сергею и Петру Ивановичам О., свое недвижимое имение 372. 1755 — 64, муж ее с кн. Ив. Вас. Одоевским, владел Моск. у. с. Ивановским 373. 1742, родители ее отдали ей: Моск. у. села Знаменское (Казино) и Троицкое (Черемошье), котор. в 1756 перешли к ее сыну, кн. Серг. Ив. Одоевскому 374.
53/43. КНЖ. ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА ОДОЕВСКАЯ († 1791)
† 1791 375.
54/43. КНЖ. МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ОДОЕВСКАЯ (1745)
1745, авг. 13, княгиня Прасковия Мих. Волконская продала за 30 руб. дочери кн. Мих. Юр. О. кж. Марии Михайловне О., двор в Москве 376. 1775, фев. 8, она же, кж. Марія
Мих. купила за 30 руб. у Гневашевой двор в Москве 377.
55/46. КН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 1710, † 20.03.1768)
действительный тайный советник, президент Вотчинной коллегии, сын князя Василия Юрьевича Одоевского и княжны Марии Алексеевны, урожденной Лыковой. Род. в 1710 г. 378.
1722 г. января 10, служит в морском флоте гардемарином. 1732, септ. 8. камер-юнкер, назначен Советником Вотчинной Коллегии. 1733, дек. 17, произведен в статск. сов. 1740, сент. 11, Вице-президент Вотчинной Коллегии; 1741, янв. 21, Президент Вотчинной Коллегии, произвед. в действ. ст. сов. 1744, июля 15, тайный советник. 1746, сент. 19, назнач. сенатором. 1757, авг. 30, произведен в действ. тайн. сов. 1761, фев. 16, уволен в Москву для лечения 379. 1762, авг. был во главе сенаторов, отправившихся в Москву на коронацию Екатерины II 380.
† 20 марта 1768 г.
1755—64, с кн. Ив. Мих. Одоевским владел с. Ивановским Моск. у. 381.
Единственный сын этих родителей князь Иван, по словам князя Петра Долгорукова, «был одним из самых жалких людей своего времени: промотав состояние отца, <…> он жил тем, что плутовал в картах, а иногда <…> прикарманивал ставки, лежавшие на столе». От наследника престола, будущего императора Петра III, получив за это пощечину, был выкинут вон пинком ноги, что, впрочем, не помешало ему позднее стать сенатором, действительным тайным советником и получить орден Св. Александра Невского на ленте. Он содержал оркестр крепостных музыкантов и посылал их играть по домам, а выручку забирал себе, и это уже будучи сенатором.
∞, 1°, 1725, ГР. ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА ТОЛСТАЯ (* 1709, † 26.03.1758), дочь Ивана Петровича Толстого (1690–1728) и Прасковьи Ивановны Троекуровой (Ртищевой?) (1690–1748). Род. 1758, марта 26; погреб. на старом Лазаревск. кладб. Александро-Невск. Лавры 382.
∞, 2°, ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА ВОЛКОНСКАЯ ИЗ САМАРИНЫХ (* 23.01.1713, † 6.12.1774). Род. 1713, янв. 23 383. 1776, янв. 27, кн. Михаил Авраамович Волконский продал дворовое место в Москве, которое досталось ему после матери его покойной, кн. Евдокии Михайловны, жены д. т. с. кн. Ивана Васильевича Одоевского, бывшей кн. Волконской 384. † 1774, дек. 6; погреб. в Моск. Донском мон. 385. В книге «Родъ князей Волконскихъ», месяцем рождения ее указан почему-то ноябрь, а годом смерти ее — 1794, тогда как сын ее называет покойной уже в 1776 г.
56/46. КНЖ. СОФИЯ ВАСИЛЬЕВНА ОДОЕВСКАЯ (1724-после 1762)
Дочь ..... 386. Род. oк. 1724, † после 1762, в Аддинале, в Эстляндии 387.
1743, авг. 19, приговорена по Лопухинскому делу к отсечению головы, она, по смягчении приговора, без телесного наказания, была сослана с мужем в Томск. На приговоре по ее делу, Императрица Елизавета Петровна собственноручно написала: «плутофъ наипаче жалѣть не для чего, лучше чтобъ и векъ ихъ не слыхать, нежели еще от ниxъ плодофъ ждать» 388.
∞, 18.11.1741, КАРЛ-ГУСТАВ ЛИЛИЕНФЕЛЬД (ум. 1759), камергер. Род. в Аддинале, в Эстляндии, † 1759 апр. 12, в Якутске, в Сибири 389.
XXVII генерація від Рюрика
57/52. КН. СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* конец 1730‑х † 16.04.1776)
Сын ..... 390, прапорщик лейб-гвардии (1776).
1756, получил после родителей Моск. у. с. Знаменское (Казино) 391. 1756, с родным братом кн. Петром Ив., получили имения деда Александра Тимоф. и бабки Анны Мих. Ржевских 392. 1776, прапорщик л.-гв., купил у Ключаревой двор в Москве, за 1150 р. 393.
58/52. КН. ПЕТР ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 28.01.1740, † 10.04.1826)
Служил в Конной гвардии. В 1762 г. за содействие при восшествии Екатерины II на престол произведен в подпоручики. В 1771 г. перевелся из гвардии в армию полковником. В 1793–1803 гг.-полковник в отставке.
1756, с родн. брат. кн. Серг. Ив. получил имение родного деда и бабки Ржевских — Александра Тимоф. и Анны Михайловны 394. 1776, с Высочайшего разрешения предоставил село Большово в распоряжении учрежденного им убежища для бедных 395. 1778, мр. 1, полковник, продал Ржевским за 100 руб. двор в Москве, в Белом городе 396. 1793, полковник в отставке, помещик Угличск. у. с. Заозерья с деревнями и 1456 душ крестьян и в друг. губ. 2883 душ 397.
Скончался князь Одоевский в возрасте 86 лет, в 1826 г. и был похоронен в Косьмодамиановской церкви с. Большево.
Он прославился как благотворитель. Организовал в Москве Дариинский приют. У него в доме, под надзором пожилой дамы, всегда жили 2–3 воспитанницы, бедные сироты, которым он давал образование, а потом, обеспечив, выдавал замуж, а на их место всегда поступали новые. По смерти жены и последней дочери в 1776 основал в своем подмосковном селе Большево «Убежище бедным», на содержание которого пожертвовал 1180 душ. За собой оставил лишь поместье, расположенное недалеко от церкви. Петром Ивановичем в селе были выстроены две церкви – в 1786 г. ныне действующий храм Косьмы и Дамиана, и в 1800 г. теплая Преображенская церковь, ныне сильно перестроенная.
О владельце имения Петре Ивановиче Одоевском мемуарист Вигель вспоминал: «Дом князя Одоевского, коего сделался я частым посетителем, не был шумен, пышен, как другие дома богатых в Москве людей, но он был, однако же, верное изображение тогдашних нравов древней столицы… В одеянии, поступи, в самом выражении лиц господских людей виден характер господина… Вид спокойствия, довольство, даже тучность домашней прислуги князя Одоевского, почтительно-свободное ее обхождение с хозяевами и гостями, вместе с тем заметный порядок и чистота показывали, что он отечески управляет домом. Действительно, он был барич, который, по достижении совершеннолетия, долго путешествовал за границей и, возвратясь оттуда, сохранил в доме своем обычаи старины, прибавив к ним устройство и опрятность, которые заимствовал он у европейских народов. Он был сухонький старичок, но весьма живой и, как говорят французы, еще зеленый. Мне сказали, что он отставной полковник, а я, признаюсь, сначала принял его за отставного камергера…».
∞, ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА ПОЛТЕВА 398.
58/52 или /55. КНЖ. ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ
Дочь ..... 399.
∞, 1°, ИВАН ИВАНОВИЧ ИЗМАЙЛОВ, генерал-майор 400;
∞, 2°, ПЁТР ФЁДОРОВИЧ ТАЛЫЗИН, генерал-поручик 401.
59/55. КН. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (* 1730‑е, † 1798)
Сын ..... 402.
1757, янв. 26, из ротмистров 3‑го Кирасирск. полка в Конную Гвардию — секунд-ротмистром 403. 1760, л.-гв. секунд-ротмистр 404. 1762, июля 26, за содействие в возведении имп. Екатерины II на престол, — по л.-гв. Конному полку произведен от армии полковником 405. 1762, июля 26 — 1778, полковник от армии 406. 1798, полковник от армии в отставке 407.
1764, окт. 6 полк., по раздельному акту получил с. Никольское с дд. Галицк. у [Спр. Вотч. Деп., д. А, 59.)). 1778, полк., имел двор в Mоскве, доставшийся ему от отца его кн. Ивана Васильевича О. 408. 1792, подал родословную роспись кн. Одоевских.
† 1798 409.
∞, КНЖ. ЕЛИЗАВЕТА БАКАРОВНА ГРУЗИНСКАЯ (* рубеж 1730‑х, † 1768), дочь царевича Бакара и жены его Анны 410.
60/55. КН. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 6.01.1738 † 21.11.1797)
Тайный советник и сенатор, сын ..... 411. Род. 1738, янв. 6. 412.
1764, артиллерии капитан 413. 1797, апр. 5, советник Ассигнационного Банка, пожалован в тайн. сов. и сенатором 414.
† 1797, нояб. 21; похор. СПб., Ал.-Нев. Лавра, Лазаревск. кл-ще, плита известняковая с гербом, аналогичная соседней, жены, кн. Марии Федоровны (ур. Вадковской), IX уч. 415
∞, МАРИЯ ФЕДОРОВНА ВАДКОВСКАЯ (* 12.03.1751, † 5.05.1786). Погреб. с мужем 416.
61/55. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 5.04.1742 † 11.12.1806)
Генерал-поручик, шеф Ингерманландского драгунского полка 417, сын ..... 418. Род. 1742, апр. 5. 419.
1762, авг. 1, за содействие въ возведении Императ. Екатерины II на престол, произведен в подпоручики Л.-ГВ. Конного П. 420. 1764, гв. поручик 421. 1771, июля 17, пожалован в армию полковником за известие, привезенное им о победе и взятии крепости Кафы, а так равно за знаки мужества и усердие к службе, оказанные им, во время кампании, в бытность волонтером при 2 армии 422. 1792, генерал-поручик 423.
† 1806, дек. 11; погреб. в Моск. Спасо-Андрониевском монастыре 424.
∞, АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА ИЗМАЙЛОВА (* 17.04.1769† 29.09.1807), д. генер.-м.
Ив. Ив. и Евдок. Ив. (ур. кж. Одоевской) Измайловых 425.
Род. 1769, апр. 17, † 1807 . сент. 29. 426.
62/55. КН. СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 1743 † 17.11.1811)
Полковник, сын ..... 427. Род. 1743 428. 1765, поручик л.-гв. Семеновского п. 429. 1769, капитан-поручик. 1771, капитан. 1773, уволен армии полковником 430. 1792, полковник 431.
† 1811, нояб. 17; погреб. в Моск. Донском мон. 432.
Ж., КНЖ. ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА ЛЬВОВА (* 11.04.1743 † 30.07.1807). Род. 1743, апр. 11 433. 1765, жена поручика л.-гв. Семен, п., кн. Сергея Ив. О., княг. Елизавета Алексеевна, купила у княг. Ирины Семеновны Щербатовой 50 четв. в с. Артемьевском Яросл. у. 434. † 1800, июля 30; погреб. вместе с мужем 435.
63/55. КН. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1764,1768)
Сын 436. 1764, уп. как больной. 437.
64/55. КНЖ ВАРВАРА ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ († 04.02.1788)
Дочь .... 438.
† 1788, фев. 4 439
∞, КН. ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ (†1792). † 1792, дек. 9 440.
65/55. КНЖ. НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ
Дочь .... 441.
М., ГР. АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ АПРАКСИН (1733–1792). Род. 1733, авг. 31, 1–1792, июня 15. 442.
66/55. КНЖ. МАРИЯ ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ (* 1740‑е, † 5.02.1784)
Дочь .... 443. 1764, Фрейлина Высочайшаго Двора. 444.
† 1784, фев. 5. 445.
∞, 25.04.1764, АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ ЗАКРЕВСКИЙ (1744–1804), обер-офиц. л.-гв., впоследствии д. с. с. 446.
67/55. КНЖ. АННА ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ
∞, ПЁТР ИВАНОВИЧ ШУВАЛОВ (1711–1762), генерал-фельдмаршал.
XXVIII генерація від Рюрика
68/58. КН. СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 19.09.1790, † 1813)
Сын Петра Ивановича 447. Род. 1790, сент. 19. 448. 1792, имеется на Родосл. росписи 1792, поданной и подписанной его отцом 449. † 1813, убит под Дрезденом 450.
69/58. КН. НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ
Имеется на Родосл. Росп. 1792, поданной и подписанной его отцом 451.
70/58. КНЖ. ДАРЬЯ ПЕТРОВНА ОДОЕВСКАЯ (* 25.05.1786, † 2.12.1818)
Дочь Петра Ивановича 452. Имеется на Родосл. Росп. 1792, поданной и подписанной его отцом 453.
∞, ГРАФ ОКТАВИЙ (ОСИП ОСИПОВИЧ) ДЕ КСЕНОН, генерал-лейтенант, впоследствии пэр Франции.
71/60. КНЖ. ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ОДОЕВСКАЯ (* 1770, † 9.10.1820)
Дочь кн. Александра Ивановича Одоевского (1738—1797) и Марьи Федоровны Вадковской (1751—1786) 454. Род. 1770, † 1820, окт. 9; погреб. в Алекс.-Нев. Лавре 455.
∞, Кн. Иван Сергеевич Одоевский 456. Род. 1769, † 1839, апр. 6 457.
72/60. КНЖ. ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА ОДОЕВСКАЯ (*1770‑е †1845)
Дочь кн. Александра Ивановича Одоевского (1738—1797) и Марьи Федоровны Вадковской (1751—1786) 458.
∞, ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛАНСКОЙ (1767–21.10.1834), тайный сов., сенаторъ, Кіевскій и Московский губернатор 459. Род. 1767, † 1834, июля 19 460.
73/61. КН. ИВАН ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (*1792, †20.01.1814)
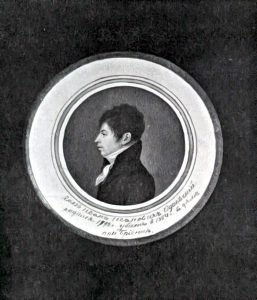
Сын Ивана Ивановича, родился, вероятно, после 1792, т. к. на Родословной таблице, поданной в этом году и подписанной его отцом, его нет 461. 20-летним юношей он встретил 1812 год в рядах армии и был убит в битве при Бриенне во время заграничной кампании, 29 января 1814 года.
74/61. КНЖ. ВАРВАРА ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ (* .12.1794 † .04.1845)
Дочь Ивана Ивановича, жена Серг. Ст. Ланского, впоследствии министра внутренних дел 462. † 1844 463.
Ланская известна своей дружбой с митрополитом московским Филаретом (см. «Записки о жизни и времени святителя Филарета, митрополита московского», сост. Н. В. Сушковым, М. 1868) и перепиской с М. А. Волковой («Вестн. Европы», 1874 и 1875), давшей богатый материал для характеристики моск. общества Александровской эпохи, так назыв. «Грибоедовской Москвы». Перевела на франц. язык речь митрополита Филарета: «Беседа по освящении храма Пресв. Богородицы» (М. 1847).
Варвара Ивановна Ланская (ур. Одоевская, 1794–1845) — родная, любимая тетка Владимира Одоевского. До замужества жила в Москве, в семье опекунши Варвары Александровны Ланской, урожденной Одоевской. ее переписка с М.А. Волковой («Вестник Европы» », 1874 и 1875) дает богатый материал для характеристики «Грибоедовской Москвы». после замужества была в столице хозяйкой литературного салона, собиравшего многих литераторов и деятелей искусства. дочь генерал-поручика, князя Ивана Ивановича Одоевского. Варвара Ивановна унаследовала все имения родителей, умерших в 1806–1807 годах. их дочь, племянница Ольги Степановны, Мария Сергеевна Вревская (1819–1845) была замужем за бароном, генерал-адъютантом Павлом Александровичем Вревским (1809—1855), одним из из внебрачных детей А. Б. Куракина и видным деятелем обороны Севастополя.

И мать, и дочь умерли внезапно от смертельной болезни, о чем сообщал Бутурлин в письме Погодину: «Летом 1845 года были отчаянно больны в Петербурге (и затем обе вскоре померли) Варвара Ивановна Ланская и ее дочь, баронесса Мария Сергеевна Вревская, жившие в одном доме, но в разных этажах» [Письмо М. Д. Бутурлина к М. П. Погодину 19 августа 1874]. Летом семья Сергея Степановича жила в подмосковном имении жены Лукино-Варино (ныне Щелковский района), часто у них гостила и чета Одоевских. от родителей Варвары Ивановны им также перешло село Троицкое с деревнями бывшей Гагаринской волости, ныне Костромской области Шарьинского района. в Петербурге был известен их дом в Мошковом переулке (дом 1 на углу Мошкова и Дворцовой набережной, ныне не сохранился), а также дом на Мойке. недавно на проспекте Энгельса 4 была восстановлена «Мыза Ланская», которой владел Степан Сергеевич Ланской, и где часто гостил Одоевский с женой. хочу также подчеркнуть, что Наталья Николаевна Гончарова никогда не жила на этой даче, такие сведения — лишь рекламный ход строительной компании.
При Ланских владение это под Петербургом простиралось от Большого Сампсониевского проспекта до набережной Черной речки. с юга оно имело границу по Ланской дороге (Ланское шоссе), а с севера ограничивалось соседним участком. также настоятельно подчеркиваю, что облик здания, восстановленного сейчас, сложился гораздо позже, в 1905–1906, когда к даче был пристроен двухэтажный объем с кухней в стиле модерн (фирма «Бодо Эгесторф и Ко»). мыза Ланских под Петербургом, 1910‑е гг.
подмосковное имение перешло Ланским от родителей Варвары Ивановны, так как в возрасте шестнадцати лет она осталась единственной наследницей всех имений своих родителей. второе название Лукино-Варино приобрело именно благодаря имени его новой владелицы, Варвары. Варвара Ивановна была дамой блестящего ума, окончила Институт благородных девиц, составила меткие записки о грибоедовской Москве. а в 1811 году, вместе с семьей Ланских переехала в Петербург, где в 1825 г. вышла замуж за племянника своего благодетеля Д.С. Ланского — Сергея Степановича Ланского.
Живя с мужем в Петербурге, Варвара Ивановна была хозяйкой литературного салона, который посещали В.Л. Пушкин, И.И. Дмитриев, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, А.С. Пушкин, В.Ф. Одоевский, С.А. Соболевский и другие видные литературные деятели.
в усадьбе Лукино-Варино, где Ланские проводили каждое лето, также бывало блестящее общество. в альбоме Варвары Ивановны Ланской, хранящемся в ЦГАЛИ в Москве, имеются посвященные хозяйке стихотворения В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, В.Ф. Одоевского с припиской «Варино», что подтверждает их пребывание в усадьбе в 1820‑е годы. хозяева перестроили в начале XIX века большой двухэтажный каменный дом, а старый, деревянный, стоявший в парке, приспособил под домашний театр. в нем разыгрывались небольшие пьесы и водевили с участием хозяев, гостей и дворовых людей. в парке устраивались гулянья с музыкой и иллюминацией, крестьянские девушки и парни водили хороводы, пели песни, плясали, развлекая хозяев и гостей. днем гости гуляли по окрестностям, катались на лодках, играли в городки и лапту.
Известно, что помимо театра чета Ланских увлекалась и живописью — в Петербурге они брали уроки рисования у Ореста Адамовича Кипренского; в доме Ланских часто бывали художники А.О. Орловский, П.Ф. Соколов, Я.Я. Рейхель. также Варвара Ивановна не была лишена литературных способностей: в 1847 г. вышли в свет переведенные ею на французский язык «Беседы митрополита Филарета по освящении храма Пресвятой Богородицы Взыскательницы 559 погибших», состоявшегося при тюрьме пересыльных арестантов 23 декабря 1843 г. в Москве. Сергей Степанович Ланской. из «Главные деятели освобождения крестьянства» [Под ред. С.А.Венгерова. СПб.: Брокгауз – Ефрон, 1903].
Сергей Степанович Ланской, кстати, был вовлечен в «Союз благоденствия» Александром Николаевичем Муравьевым. тогда же он активно участвует в разработке ее законоположения (Устава), однако в 1821 году из-за разногласий среди членов, организация распалась. Ланской выходит из организации декабристов и не вступает во вновь созданный «Северный Союз», целиком посвящая себя государственной деятельности. этот поступок и спас его от кары. во время восстания декабристов его в Петербурге не было. при допросах, Муравьевы имени Ланского не назвали, и он избежал кары.
Еще один забавный факт о Сергее Степановиче — родственники жены считали, что он принимал участие в сборе средств русскими масонами и отсылке их Герцену за границу на издание вольной русской печати. они обвиняли Ланского в том, что он, якобы, растранжиривал приданое жены на масонские дела. по свидетельству Я.А. Соловьева: «Ланской никогда не отступал от своих основных убеждений». Н.С.Лесков в рассказе «Однодум» лает характеристику Ланского на посту костромского губернатора: «Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ».освободившись от государственной службы, страдавший диабетом Ланской, уезжает на лечение за границу и там, в 1862 году умирает. хоронят его в Петербурге, в некрополе Смоленской церкви, рядом с умершими ранее женой и дочерью.в семье Шишовых, последующих владельцев имения Лукино существовало предание о том, что С.С. Ланской завещал выбить на его надгробной плите стихотворение казненного декабриста Сергея Ивановича Муравьева-Апостола:
«Задумчив, одинокий
Я по земле пройду, незнаемый никем,
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он.»
На надгробии его супруги Варвары Ивановны была высечена следующая надпись:
«Супруга тайного советника Варвара Ивановна Ланская, Урожденная княжна Одоевская,
Родилась 26 июня 1790 года в селе Варине, Скончалась 9 апреля 1845 года в Санкт-Петербурге». К сожалению, оба эти надгробия не сохранились. фотография надгробия и серебряная виньетка с гроба Варвары Ивановны находятся в краеведческом музее города Лосино-Петровского. После смерти отца сельцо Варино с деревнями Асеево, Назарово и Ситьково переходит ко второй дочери Ланских — Варваре Сергеевне и сыну Степану Сергеевичу.
По воспоминаниям Шишовых, в усадьбе жил сын Ланского Степан (Стива), который вел широкий образ жизни, проматывая доставшееся от отца наследство. Шишовы предполагают, что Степан Сергеевич Ланской был одним из прототипов Стивы Облонского в романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина». в 1877 году имение Лукино-Варино с 659‑ю десятинами земли приобрел купец 2‑ой гильдии, владелец Монинской шерстоткацкой фабрики Николай Иванович Шишов (1837–1892). Шишову досталась часть фамильных портретов Ланских и Одоевских, рисунки и портреты, принадлежащие кисти О.А. Кипренского, П.Ф. Соколова, Орловского, Я.Я. Рейхеля, портреты и рисунки С.С. Ланского и В.И. Ланской. сейчас они находятся в фондах Щелыковского и Лосино-Петровского историко-краеведческого музея.
М., ГР. СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ ЛАНСКОЙ (* 23.12.1787 † 26.01.1862) 464, действ. тайн, сов., Министр Внутренних Дел, Обер-Камергер. Род. 1787, † 1862, янв. 26 465.
75/62. КН. ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1769–6.04.1839)
Сын кн. Сергея Ивановича Одоевского и кнж. Елизаветы Алексеевны Львовой 466, генерал-майор (1799), шеф 2‑го Казачьего п.
Род. 1769 467. 2 февр. 1776 записан фурьером в л.-гв. Преображенский полк, 1 января 1779 переписан сержантом в л.-гв. Семеновский полк, а в сент. 1782 произведен в прапорщики. В февр. 1789 выпущен в армию с чином капитана, назначен в Софийский карабинерный полк и определен флигель-адъютантом в штат к князю Г.А. Потемкину-Таврическому. Участник Русско-турецкой войны 1788–1790. Находился в сражении при Каушанах, при осаде и взятии Бендер, отличился при взятии Килии, при осаде и штурме Измаила. В кампанию 1791 участвовал в сражении под Мачином. За отличие произведен в подполковники и назначен командиром Украинского легкоконного полка. Сражался с полком против польских конфедератов во время походов 1792 и 1794. Участвовал в сражении у Кобрина и в занятии Брест-Литовска, за отличие при штурме Праги (предместья Варшавы) в янв. 1795 пожалован в полковники 468.
В марте 1798 назначен командиром Софийского кирасирского полка. В февр. 1799 произведен в ген.-майоры и назначен шефом Сибирского драгунского полка. В марте 1800 уволен в отставку. Вернулся на службу после восшествия на престол императора Александра I и в февр. 1803 назначен шефом Ингерманландского драгунского полка. Командуя полком, участвовал в Русско-австро-французской войне 1805, сражался с французами под Амштеттеном, Вишау и Аустерлицем. В авг. 1806 был назначен шефом Нежинского драгунского полка, затем командовал бригадой. В апр. 1809 вышел в отставку.
Во время Отечественной войны 1812 принимал деятельное участие в формировании Московского ополчения, собрал и обучил военному делу 2‑й пехотный полк ополчения и был назначен его шефом. Во главе полка участвовал в Бородинской битве, сражениях под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. Участник Заграничных походов русской армии 1813–1814. В кампанию 1813 находился при осаде и взятии Данцига. С 1815 в отставке.
Награжден российскими орденами – Св. Анны 1‑й ст., Св. Владимира 3‑й ст.; золотым крестом за взятие Измаила, золотым оружием «За храбрость».
† 1839, апр. 6 469.
Имел родовое поместье — село Николаевское (ок. 100душ), близ Юрьева-Польского Владимирской губ. Первая жена, его двоюродная сестра, Одоевская Прасковья Александровнв (1770–1820), принесла в качестве приданого поместье в Ярославской губ. (1000 душ).
∞, 1°, КНЖ. ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ОДОЕВСКАЯ (* 1770 † 9.10.1820). † 1820, окт. 9; погреб. в Алекс.-Нев. Лавре 470. От этого брака – сын Александр (1802–1839).
∞, 2°, 15.06.1823, МАРИЯ СТЕПАНОВНА ГРЕКОВА (* около 1786). Дети от второго брака: Иван 1826, Мария 1826–1833, Сергей 1828, Николай 1830–1845, Нина 1836, Софья 1836, замужем за Масловым.
76/62. КН ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 14.04.1771† 5.06.1808)
Статский советник, сын кн. Сергея Ивановича Одоевского и кнж. Елизаветы Алексеевны Львовой 471.
Род. 1771, апр. 14 472. 1778 , янв. 6, рядовой л.-гв. Преображенскаго п.; 1781, июля 1, сержант л.-гв. Семеновского п. 1790,
февр. 23, флигель-адъютант кн. Потемкина-Таврического; 1792, фев. 2, поручик. л.-гв. Преображенского п.; 1796, янв. 1, капитапъ-поручикъ; 1796, дек. 17, надворн. сов. Герольдии; 1797, апр. 29, коллежский сов.; 1798 , апр. 5, стат. сов.; 1798, мая 5, Директор Москов. ассигнацион. банка 473.
† 1808, июня 6, умер по причине неудачной операции, погребен в Спасо-Андрониевском мон. в Москве 474.
Начал службу в гвардии и в 1790 г. был флигель-адъютантом князя Потемкина. Затем перешел на гражданскую службу и с 1798 г. был директором Московского Ассигнационного банка. Он
Ж., ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ФИЛИППОВА (* 1770‑е † 1848), дочь прапорщика Алексея Филиппова и Авдотьи Петровны, владевшей дюжиной дворовых и “нажитом” домом в Москве. Брат Александр Алексеевич — губернский секретарь, отличался дурным поведением; другой дядя – Алексей Алексеевич – служил в Лубянском гусарском полку корнетом, воевал с турками, с Наполеоном, служил на Кавказе. То ли в 1818 г., то ли в 1819 г. Екатерина, вторично выйдя замуж за отставного поручика Павла Дмитриевича Сеченова, человека грубого и необразованного, утратила княжеский титул.
77/62. КН. ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 11.05.1775† 1.02.1801)
сын кн. Сергея Ивановича Одоевского и кнж. Елизаветы Алексеевны Львовой 475.
Род. 1775, мая 11 476. 1799, янв. 4, из поручиков Кирасирскаго Коробьина полка переведен в кон. гвард. и назначен адъютантом к ген.-лейт. кн. Голицыну. 1799, произведен в ротмистры 477.
† 1801, фев. 1; гвардии ротмистр, погреб. 28 фев. т. г. в Ал.-Невск. Лавре 478.
Холост и б/д
78/62. КНЖ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ОДОЕВСКАЯ (* 12.05.1767 † 28.07.1791)
дочь кн. Сергея Ивановича Одоевского и кнж. Елизаветы Алексеевны Львовой 479.
∞, АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ ГРИБОЕДОВ (ум.1830), надв. сов, родной брат матери писателя А.С. Грибоедова (последний, таким образом, приходился князю В.Ф. Одоевскому свойственником); дочери от этого брака (двоюродные сёстры князя Владимира Фёдоровича) были в замужестве: Елизавета — за фельдмаршалом Иваном Фёдоровичем Паскевичем, князем Варшавским, графом Эриванским, а Софья — за Сергеем Александровичем Римским-Корсаковым.
79/62. КНЖ ПРАСКОВЬЯ СЕРГЕЕВНА ОДОЕВСКАЯ (* 16.04.1773 † 19.10.1851)
дочь кн. Сергея Ивановича Одоевского и кнж. Елизаветы Алексеевны Львовой 480. Род. 1773, апр. 16, † 1851, окт. 19; погреб. в Ал.-Невск. Лавре вместе с мужем 481.
∞, КН. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕРБАТОВ (* 1776, † 16.08.1834), ст. сов., сын кн. Александа Петровича Щербатова (1746-?) и Елизаветы Михайловны Сафоновой 482. (Его 2‑я жена).
80/62. КНЖ. ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ОДОЕВСКАЯ (* 7.06.1787 † 17.02.1851)
дочь кн. Сергея Ивановича Одоевского и кнж. Елизаветы Алексеевны Львовой 483. Род. 1787, июня 7, † 1817, фев. 17; погреб. в Москов. Донском мон. 484.
∞, ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ ДУРНОВО.
XXIXгенерація від Рюрика
81/73. КН. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 26.11.1802 † 15.08.1839)

Сын Ивана Сергеевича от 1‑года брака с кнж. Прасковьей Александровной. Корнет лейб-гвардии Конного полка, поэт, декабрист. Получил домашнее образование. Зачислен на службу в 1815 г. канцеляристом, в 1818 г. — губернским секретарем, в 1820 г. уволился и поступил вольноопределяющимся в армию. В 1823 г. произведен в корнеты. Член Северного общества (1825), участник восстания 14 декабря 1825 г.. после разгрома которого добровольно явился к петербургскому обер-полицмейстеру (16.12.1825) и был помещен в камере № 16 Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Осужден по IV разряду и по конфирмации 10 июля 1826 г. приговорен к каторжным работам сроком на 12 лет. 22 августа 1826 г. срок был сокращен до 8 лет. После приговора ему было разрешено свидание с отцом. 30 марта 1827 г. доставлен в Читинский острог. По указу 8 ноября 1832 г. направлен на поселение на Тельминскую казенную фабрику Иркутской губернии, откуда 2 апреля 1833 г. написал Николаю I письмо о своем раскаянии и с просьбой о помиловании. С 1833 г. находился в селе Елани Иркутской губернии, где построил себе дом. 23 мая 1836 г. по указанию Николая I (по ходатайству отца, поддержанному князем И. Ф. Паскевичем) переведен в г. Ишим Тобольской губернии. В 1837 г. определен рядовым в Кавказский отдельный корпус.
Умер в Псезуале на Кавказе от малярии во время экспедиции на восточный берег Черного моря, произведенный в офицеры 485.
Стихи, написанные Александром Ивановичем до 1825 г., почти не сохранились. После 1825 г. в его творчестве звучит тема верности прежним идеалам: стихотворение «Струн вещих пламенные звуки...» (1827; ответ на известное «Послание в Сибирь» А. С. Пушкина) и др. 55
— поэт (1803—1839). Получив прекрасное домашнее образование, О. служил в лейб-гвардии конном полку. За участие в событиях 14 декабря 1825 г. был сослан в Сибирь (Чиьтинский и Петровский острог, с 1833 г. на поселении в Ишиме), в 1837 г. переведен на Кавказ рядовым в нижегородский драгунский полк и здесь через два года умер, оплакиваемый не только товарищами, но и всеми знавшими его рядовыми и горцами. Лермонтов почтил его память прелестным стихотворением, живо характеризующим личность О.: «Я знал его: мы странствовали с ним»... Он имел репутацию умного, образованного и благородного человека; некоторые называли его даже «христоподобной» личностью. Он был очень дружен с Грибоедовым, на которого имел значительное влияние. О. принадлежит к второстепенным поэтам Пушкинского периода; почти все его стихотворения относятся ко времени после 1825 г. и потому носят элегический характер; в них слышатся скорбь о страданиях человека, призыв к милосердию и любви. Сам поэт смотрел на поэзию, как на «ангела-утешителя», и черпал в ней «все радости, усладу скорбных дней» («Поэзия»). Хотя О. свои стихотворения только говорил, и большей частью экспромтом, а записывали их его друзья, но многие из них отличаются гладкостью стиха и художественностью образов, все — искренностью чувства. При его жизни в печати появилась только пьеса «Сен-Бернард» («Современник», 1838, Х т.), а все остальные — после его смерти, в разных журналах. В 1862 г. были напечатаны в Лейпциге его стихотворения (17) отдельной книжкой. В 1883 г. барон Розен предпринял новое издание и внес в него до 46 пьес, включив сюда и самое крупное произведение О., изображающее русскую старину — поэму «Василько», впервые напечатанную в «Русском Архиве» (1882, XXXIII т.). В этом же издании помещена и биография поэта. См. также ст. А. Н. Сироткина, «Князь А. И. О.» («Исторический Вестник», 1883, № 5).
В. Р—в.
{Брокгауз}
Одоевский, князь Александр Иванович (26.11.1802—15.8.1839). — Корнет л.-гв. Конного полка. Поэт.
Отец — генерал-майор кн. Ив. Серг. Одоевский (1769—6.4.1839), мать — княж. Праск. Александровна Одоевская (двоюродная сестра отца, ум. 9.10.1820). Воспитывался дома, зачислен на службу в Кабинет е. в. канцеляристом — 11.2.1815, губ. секретарь — 31.12.1818, уволен — 1820, поступил на правах вольноопределяющегося унтер-офицером в л.-гв. Конный полк — 1.10.1821, признан в дворянском достоинстве и вследствие повеления цесаревича Константина Павловича произведен в юнкеры — 4.11.1821, эстандарт-юнкер — 1. 5.1822, корнет — 23.2.1823. Друг А. С. Грибоедова, А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева (см.). За ним в Ярославской и Вологодской губ. 371 душа.
Член Северного общества (1825), участник восстания на Сенатской площади.
Добровольно явился к петербургскому обер-полицмейстеру А. С. Шульгину — 16.12.1825; 17.12 помещен в Петропавловскую крепость («Одуевского посадить в Алексеевском равелине») в № 16 Алексеевского равелина.
Осужден по IV разряду и по конфирмации 10.7.1826 приговорен в каторжную работу на 12 лет, срок сокращен до 8 лет — 22.8.1826. После приговора оставался в Петропавловской крепости, с Высоч. соизволения (5.9.1826 в Москве) отцу его было разрешено свидание с сыном. Отправлен в Сибирь — 2.2.1827 (приметы: рост 2 арш. 7⅞ верш., «лицо белое, продолговатое, глаза темно-карие, нос остр, продолговат, волосы на голове и бровях темно-русые, на левой брови небольшой шрам от конского ушиба»), доставлен в Читинский острог — 20.3.1827, написал ответ («Струн вещих пламенные звуки...») на стихотворное послание А. С. Пушкина к декабристам в Сибирь, прибыл в Петровский завод в сент. 1830. По указу 8.11.1832 обращен на поселение в Тельминскую казенную фабрику Иркутской губ., откуда 2.4.1833 написал Николаю I письмо о своем раскаянии с просьбою о прощении. С 1833 находился в с. Елани Иркутской губ., где построил себе дом, а оттуда с Высоч. разрешения 23.5.1836 по ходатайству отца, поддержанному кн. И. Ф. Паскевичем, переведен в Ишим Тобольской губ. При отъезде из Елани «все домообзаведение свое» Передал 20.9. 1836 декабристу В. И. Штейнгейлю (см.). По Высоч. повелению (письмо военного мин. гр. Чернышева 21.7.1837) определен рядовым в Кавказский отдельный корп., причем разрешено от Казани следовать к месту назначения на почтовых с жандармом, зачислен в Нижегородский драг. полк — 7.11.1837. Был близок с М. Ю. Лермонтовым, служившим с ним в одном полку. Лермонтов посвятил Одоевскому стихотворение «Памяти А. И. Одоевского», в 1839 в Пятигорске познакомился с Н. П. Огаревым. Умер в Псезуапе от малярии во время экспедиции на восточный берег Черного моря.
ВД, II, 239—274; ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1826 г., д. 61, ч. 86.
Одоевский, князь Александр Иванович [1802—1839] — поэт-декабрист. Получил хорошее домашнее образование. Служил корнетом лейб-гвардии конного полка. На почве лит-ых интересов сблизился с А. Бестужевым-Mapлинским и Рылеевым. Был принят первым в Северное общество декабристов. Политические взгляды О. довольно умеренны; однако он был увлечен романтикой заговора и принял участие в восстании 14 декабря. Некоторая «случайность» декабризма О. выразилась в его быстром раскаянии во время следствия и в последующем творчестве, идеологически стоящем довольно далеко от декабристских настроений. Осужденный по IV разряду на 12 лет каторги, О. отбывал заключение в Петропавловской крепости, Чите и Петровском заводе, в 1832 был выпущен на поселение, а в 1837 в порядке «милости» переведен рядовым на Кавказ, где и погиб от лихорадки.
Печатался О. при жизни очень мало, стихов своих по большей части не записывал, и они сохранились в основном в списках, не всегда достоверных. По большей части это небольшие лирические произведения с ярко выраженной религиозно-философской романтикой и патриотической окраской. В стихах последекабрьского периода встречается и налет панславизма («Славянские девы»). Характерно для О. любование русской стариной (поэма «Василько» и др.), сближающее его с тематикой Рылеева и других декабристов. Но в то время как последние искали в русском прошлом образцов «гражданского мужества» и интерпретировали его в плане буржуазно-националистического сознания, О., отдав недолгую дань интересу к новогородским вольностям, воспевал в дальнейшем единение во имя «родины», единство древней Руси и т. п. Даже пребывание в тюрьме и на каторге, изменив его личную жизнь, отразилось в его творчестве лишь как мотивировка романтической грусти, близкой к позднейшим мотивам лермонтовской поэзии. В стихах 30‑х гг. О. часто прославлял царя, «возвышенный урок самодержавия», а свои колониальные впечатления (Сибирь, Грузия) передавал в шовинистическом, великодержавном духе. Так. обр. можно установить идейную близость Одоевского 30‑х гг. к дворянским поэтам типа Языкова, в свое время также пережившего период «вольнолюбия» (отказ от последнего после декабрьского разгрома в той или иной мере характерен и для части декабристов).
По мастерству Одоевский был среди декабристов крупнейшим после Рылеева поэтом. Гражданские мотивы в его творчестве довольно слабы; связываемые же с его именем революционные «Ответ декабристов Пушкину» и «При известии о польской революции» приписываются ему без точных оснований; если они и принадлежат О., то написаны в результате случайного подъема и характерны больше для настроений его тюремных товарищей, чем для творчества О. В творчестве О. наиболее примечательным является период ссылки; лирика этой поры полна мотивов религиозного отречения, одиночества, рефлексии и пр. Это делает О. в известном смысле одним из характерных предшественников лермонтовской поэзии.
Библиография: I. Собрание стихотворений О. было выпущено впервые в 1862 в Лейпциге (Собр. стихотворений декабристов, т. II), но заключало всего 17 произведений. Значительно полнее издание (Полное собр. стихотворений, СПб, 1883) декабриста А. Е. Розена, перепечатанное Мазаевым (Сочинения А. И. Одоевского, СПб, 1893, с дополнением двух критических статей О.) и в 1913 В. Поссе. Дополнение к этому собранию было издано И. А. Кубасовым в кн. «Декабрист А. И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения», П., 1922. Письма О. публиковались в «Русском архиве», 1885, кн. І; в «Русской старине», 1904, кн. II; сб. «Декабристы на каторге и в ссылке», М., 1925 (Сакулин П., А. И. Одоевский в неизданных письмах); Полное собрание стихотворений и писем, ред. Кубасова и Д. Благого, «Academia», 1934.
II. Котляpевский Н. А., Декабристы, А. И. Одоевский и А. А. Бестушев-Марлинский, СПб, 1907; Переселенков С., Кн. А. И. Одоевский, «Русский биографический словарь», СПб, 1908; Гудзий Н. К., Поэты-декабристы, «Каторга и всылка», 1925, № 8; Следственное дело Одоевского опубликовано в издании «Восстание декабристов. Материалы», т. II, Гиз, М. — Л., 1926.
III. Восстание декабристов, сост. Н. М. Ченцов, ред. Н. К. Пиксанова, Гиз., М. — Л., 1929.
82/75. КН. СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (18.07.1828-?)
Род. 1828. дек. 18. 486. Приняв духовное звание, взял имя Иван. Окончил Смоленскую Духовную семинарию в 1849. С 1851 — священник храма Рождества Богородицы и Св. Николая Чудотворца в с. Осташево Вяземского уезда Смоленской губернии, а с 1865 — еще и один из благочинных Вяземского уезда. При нем в 1866на средства помещицы Елизаветы Степановны Дядьковой, вдовы поручика, был сооружён новый каменный храм на месте деревянного, построенного в 1761 помещиком Григорием Ивановичем Воженским. Был заведующим и законоучителем церковно-приходских школ в с. Осташево и в д. Рудулево
83/75. КН. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 25.07.1830 † 1845)
Сын Сын Ивана Сергеевича от второго брака. Род. 1830, июля 25 487. Помещик с. Новоникольского, Юрьевскаго у. 488.
† 1845 489
84/75. КНЖ. МАРИЯ ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ (* 14.11.1833 † 1866)
в 1879 г., со схожим прошением на Высочайшее имя обратился и Г.Г. Григорьев, женатый, как говорилось выше, на княжне Марии Ивановне Одоевской (умершей в 1866 г.) — родной сестре С.И. Масловой и Н.И. Новиковой. Ссылаясь на неоднократное выражение желания самого покойного князя В.Ф. Одоевского, он просил разрешить присоединить фамилию, герб и титул князя Одоевского к фамилии и гербу своего старшего сына Александра и именоваться последнему князем Одоевским-Григорьевым. Однако это прошение было оставлено без удовлетворения.
М., ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ, внебрачный сын графа Григория Владимировича Орлова, олонецкий губернатор, тайный советник
85/75. КНЖ. НИНА ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ (* 5.04.1836)
Род. 1836, апр. 5 490.
∞, ..... ..... НОВИКОВ, колл. ассесор.
86/75. КНЖ. СОФИЯ ИВАНОВНА ОДОЕВСКАЯ (* 28.01.1828)
Дочь Ивана Сергеевича. Род. 1828. янв. 28 491.
В связи с бездетностью князя Владимира Федоровича двоюродные сёстры покойного князя — единокровные сёстры князя Александра Ивановича Одоевского, поэта и декабрис та, вдова гвардии ротмис тра Софья Ивановна Маслова и жена коллежского асессора Нина Ивановна Новикова (рождённые княжны Одоевские) обратились с прошением на Высочайшее имя с просьбой разрешить сыну первой из них — штаб-ротмистру лейб-гвардии Конного полка Николаю Николаевичу Маслову присоединить к его гербу и фамилии герб, титул и фамилию угасшего княжеского рода. В ответ на это прошение последовал Именной Высочайший указ от 30 июня 1878 г.: Н.Н. Маслову было дозволено именоваться впредь князем Одоевским-Масловым с тем, чтобы герб, титул и фамилия князей Одоевских переходила только к старшему в роде из его потомков.
∞, НИКОЛАЙ МАСЛОВ, гв. ромистр; её сыну Николаю Высочайшим указом от 30 июня 1878 дозволено присоединить к своей фамилии и гербу фамилию, герб и титул угасшего рода князей Одоевских и именоваться князем Одоевским-Масловым 492.
87/76. КН. ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (* 30.07.1803 † 27.02.1869)

Тайный сов., сенатор, русский писатель, философ, педагог, музыкальный критик. Последний представитель древнего княжеского рода. Род. 1804, июля 30 493. Образование получил в Московском университетском благородном пансионе (1816–1822). В 1823–1825 гг. был председателем организованного им Общества любомудрия. В 1824–1825 гг. вместе с В. К. Кюхельбекером издавал альманах «Мнемозина»; в 1827- 1829 гг.- один из основных деятелей журнала «Московский вестник», был соред актором пушкинского «Современника». В 1826 г. переехал в Петербург. С 1846 г. — помощник директора Публичной библиотеки и директор Румянцевского музея; с 1861 г. — сенатор в Москве. Общественная деятельность его весьма разнообразна: он был одним из создателей и главных деятелей благотворительного Общества посещения бедных, издателем журнала для крестьян «Сельское чтение». активно выступал с поддержкой реформ 1860‑х гг. и др..
В художественном творчестве Владимир Федорович выступал как продолжатель традиций просветительной сатиры и как признанный мастер фантастических романтических повестей.
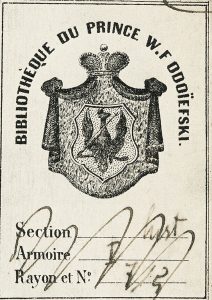
Он также явился одним из основоположников русского классического музыкознания. Был первым истолкователем творчества М. И. Глинки, пропагандировал произведения А. Н. Верстовского, А. Н. Серова и других, обосновывал национальную самобытность русской музыки. Ему принадлежат исследования в области народной песни и древне-русской церковной музыки. Ряд статей был посвящен творчеству В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Г. Берлиоза, Р. Вагнера. Участвовал в деятельности Русского музыкального общества, в создании Петербургской и Московской консерваторий. Автор ряда музыкальных сочинений.
Владимир Федорович — один из видных русских педагогов XIX в., автор ряда учебников, многочисленных методических сочинений и наставлений и т. д.

† 1869. фев. 27; погреб, въ Троице-Серг. Лавре 494.
Брак Владимира Фёдоровича был бездетным, и по кончине князя — последнего князя Одоевского, оставшегося к этому времени, — этот древний и славный род пресёкся.
Ж., ОЛЬГА СТЕПАНОВНА ЛАНСКАЯ (* 11.01.1797 † 18.05.1872), дочь гофмаршала Степана Сергеевича Ланского и Марии Васильевны (урождённой Шатиловой), родной сестре действительного тайного советника, министра внутренних дел (с 1855), обер-камергера графа Сергея Степановича Ланского, в свою очередь женатого на княжне Варваре Ивановне Одоевской, дочери упомянутого выше князя Ивана Ивановича, двоюродной сестре отца князя Владимира Фёдоровича и двоюродной сестре генерала от кавалерии Петра Петровича Ланского, женившегося на вдове А.С. Пушкина, Наталии Николаевне (урождённой Гончаровой). Похоронены на кладбище Донского монастыря в Москве, участок 3.
б/д
Скрипторий
№ 1.
[1481].I.26, в лѣт 6989 ген(варя) 26 д(е)нь, индик. Вильно. Новосильский и одоевский князь Михаил Иванович вместе с братом князем Федором Ивановичем и братаничем князем Иваном Васильевичем присягают служить королю Польши, в.к.л. Казимиру и оговаривают условия службы.
М(и)л(о)стью Б(о)жьею и г(о)с(по)д(а)рѧ Казимира, королѧ польского и великого кн(я)зѧ литовского и руского и кнѧжети пруского и жомоитьского | и иных.
Язъ, кн(я)зь Михаило Иванович Новосильскии и Ѡдоевъскии и съ своим братом съ кн(я)земъ Федором Ивановичем и съ своим | братоничем съ кн(я)земъ Иваном Васильевичем били есмо челом королю є Казимиру, г(о)с(по)д(а)рю великому князю, абы нас принѧл | у службу. И г(о)с(по)д(а)рь король и великии кн(я)зь нас, слуг своих пожелал принѧт у службу по дѧди своего, великого кн(я)зѧ | Витовтову докончанью.
А нам ему служити вѣрно во всем | без всѧкоя хитрости и во всем послушним быти.
А ему | нас во ч(е)сти и въ жалованьи и въ докончаньи держати, как дѧдѧ его, великии кн(я)зь Витовтъ дѣда нашего | держал и ѡтцевъ наших, и нас во ч(е)сти и въ жалованьи.
А полѣтное нам давати по старинѣ.
А быти нам по коро|левои и великого кн(я)зѧ воли Казимировои.
А с ким будет мирен король и великии кн(я)зь Казимиръ, ино и мы с тым | мирны. А с ким король и великии кн(я)зь Казимиръ не миренъ, ино и мы с тым не мирны.
А королю и великому кн(я)зю | Казимиру боронити нас ѡт всѧкого, как и своего.
А без королевы и великого кн(я)зѧ Казимировы воли нам ни с ким не до|канчивати, ани пособлѧти никому.
А нѣшто никоторыми дѣлы што Б(о)гъ измыслит над королем и великим кн(я)земъ | Казимиром, ино нам и нашим дѣтем служити королеви, и дѣтем, и Литовскои земли, хто будет великим кн(я)земъ | на Литовскои земли. А што Б(о)гъ учинит над нами, ино по нашем животѣ королю и великому кн(я)зю Казимиру | дѣтем нашим служити к Литовскои земли, а по его животѣ дѣтем его, хто будет г(о)с(по)д(а)ремъ на великом литовъ|ском кнѧженьи.
А по коим дѣлом Б(о)жьим ѡднова над нашими дѣтми Б(о)гъшто учинит: не будет ѡт рода нашего, ино зе|мли не ѡтступити нашеи ѡт Великого кнѧжества Литовского.
А хто сѧ ѡстанет по нашем животѣ детеи | наших , и королю и великому кн(я)зю Казимиру съ ѡтчинъ наших ихъ не рушити, а въ земли, и въ воды, и въ ѡтчи|ны наши сѧ ему не въступати, поколь рубежь Новосильскои и Ѡдоевскои земли, ѡпроч того, што изда|вна ѡтшло.
А и дѣтем его, хто будет на Литовскои земли г(о)с(по)д(а)ремъ,наших детеи не рушити, а и правду и записи | такии жь ему нам и нашим дѣтем дати. А хто не въсхочет имъ правды и докончанья такоже дати, а по то|му жь ихъ не восхочет держати, как король и великии кн(я)зь Казимиръ, ино с нас целованье долов, а нам волѧ. |
А суд и справа королю и великому кн(я)зю Казимиру давати нам ѡ всих дѣлех чисто без перевода. А съехавсѧ судям | королевым и великого кн(я)зѧ с нашими судями судити, целовавъ кр(е)стъ, без всякия хитрости въ пра|вду на ѡбѣ сторонѣ. А ѡ што сопрутсѧ суди ѡ которых дѣлех, ино положити нам на г(о)с(по)д(а)рѧ, на королѧ и великог | кн(я)зѧ Казимира. И ѡни едут перед королѧ и великого кн(я)зѧ. А кого ѡбвинит, то судямъ не надобѣ, а винова|тыи истець заплатит.
А съ великим кн(я)земъ московским, и с великим кн(я)земъпереславъским, и с великим кн(я)зем | проньским, хто нь будет тая великая княженья держати, с тыми нам суд свои имѣти по старинѣ. А чего | межи себе не управим с тыми великими кн(я)зьми у доканчаньи, ино королю за то стояти и управлѧти, | коли ты [sic] три кн(я)зи великии верхуписаныи с королем и великим кн(я)земъ будут у доканчани, или съ его сыном, или | съ его намест(ни)ком1, которыи будеть после его держати великое кнѧженье литовское.
И ѡ чем коли сами про|межи себе кн(я)зи новосильскии и ѡдоевскии сопремсѧ, и нам положити на своего г(о)с(по)д(а)рѧ,королѧ и великого кн(я)зѧ | Казимира. И королю и великому кн(я)зю Казимиру межи нас то управити.
А на сем на всем я, кн(я)зь Михаило | Иванович и съ своим братом съ кн(я)земъ Федором Ивановичем и съ своим братоничем съ кн(я)земъ Иваном Васильевичем | целовали есмо ч(е)стныи кр(е)стъ своему г(о)с(по)д(а)рю, королю и великому кн(я)зю Казимиру.
А по сеи намъ грамотѣ | правити.
А псан у Вилни в лѣт 6989 ген(варя) 26 д(е)нь, индик 14.
А при том были бояре наши Степан Борисович, а Иван Матфѣевич, | а Михаило Ѡлександрович, а Федоръ Иванович, а [Григор]еи2 Иванович, а Григореи Иванович, а Данило Ст[епанович].3
1 В оригинале: наместком. 2 Закладкой для печати заслонены 4–5 букв (восстанавливается по публикации А. В. Казакова). 3 Закладкой для печати заслонены несколько букв. Степанович (по публикации А. В. Казакова).
О.Л. Fontes historiae Magni Ducatus Lithuaniae; starbel.by/dok/d127.htm, 2010.XI.08, 2018.VII.
№ 2.
Письмо Свидригайла из Смоленска великому магистру Тевтонского ордена от 25 апреля 1434 года.
25 апреля (в день св. Филиппа и Иакова) писал Свитригайло к Гросмейстеру из Смоленска: что добрые, верные и искренние друзья его в Польше и Литве, равно и подданые его, на границе находящиеся, уведомили его о намерении поляков, в Троицын день истребить огнём, мечём или голодом замки его Лавцк (здесь, Луцк) и Кременец, и соединясь с литовцами, напасть на его земли. Что Воевода его Немира (в Коцебу «Немиза»), наместник Брянский, прибыл к нему от татарского Хана Сеид Ахмета вместе с великим князем этого Хана, по имени Бато, и с главным предводителем войск его. Послы эти донесли ему, что Хан с сильным войском и со всеми князьями и воеводами своими изготовился уже к походу и ожидает назначения его. Вследствие этого, Свитригайло, по совету князей своих и вельмож, отправил к Сеид Ахмету Ивашку Менивидовича с предложением, да благоволит Хан идти к границе польской и охранять города и замки; между тем как он сам с прочими союзными войсками двинется в землю литовскую. Что великий князь Московский Юрий прислал к нему сына своего с многочисленным войском, равно как и великий князь Тверский и князья Одоевские «коих предшественники наши никогда не могли иметь своими союзниками; и Хан отдал нам сих князей Одоевских и принадлежащие им земли во владение и собственноручно утвердил оные за нами.» Почему Орден с своей стороны должен всячески стараться о развлечении и ослаблении польских войск. «Если мы таким образом, будем помогать друг другу, как дали в том обет и клялись вместе с подвластными нам; тогда с помощью Божьею, легко противостоять можем врагам нашим.» Далее сообщает Свитригайло, что поляки неоднократно предлагали ему мир, если он только оставит Орден; но что он никогда на это не согласится. Что и сам император Римский увещевал его быть верным Ордену; «что мы всегда делали, делаем и вечно делать будем, и не нарушим клятвы и обета нашего.» Он твёрдо уверен, что Гросмейтер исполнен тех же чувств; чего ради и посылает к нему благородного Гаврила Церле, тайного Секретаря своего, который всё прочее словесно объяснти ему. (August von Kotzebue/Switrigail 1820, S. 117–118
ПЕЧАТКИ
Печаток не знайдено
ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
- 1442 г. февраля 20. — Докончание князя новосильского и одоевского Федора Львовича с великим князем литовским Казимиром.
- 1459 г. апреля 21. — Докончание князей новосильских и одоевских Ивана Юрьевича и Федора и Василия Михайловичей с королем польским и великим князем литовским Казимиром.
- 1481 г. студзеня 26. Вільня. – Даканчальная грамата караля польскага і вялікага князя літоўскага Казіміра і князя Навасільскага і Адоеўскага Міхаіла Іванавіча.
АЛЬБОМИ З МЕДІА
Медіа не знайдено
РЕЛЯЦІЙНІ СТАТТІ
- Веселовский С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси.
- Воронцов А. М , Дедук А. В., Заидов О. Н., Колоколов А. М., Столяров Е. В., Шеков А. В. Локализация летописного Девягореска по письменным и археологическим источникам
- Зимин А. А. Служилые князья в Русском государстве конца XV — первой трети XVI в.
- Шеков А. В. К вопросу о землевладении в Смоленской земле и Мстиславском княжестве XV в.
- Беспалов Р. А. О сыновьях князя Романа Семеновича Новосильского
- Кузьмин А.В. Генеалогия потомков черниговских князей по данным Румянцевского II списка первого извода Патриаршей редакции родословных книг (РГБ ф.256 №349)
- Павлов А. П. Государев двор. С. 159, 162.[↩]
- БС.Ч.2.С. 30,44.[↩]
- Беспалов Р. А. О хронологии жизни князя Федора Львовича Воротынского; Беспалов Р. А. О сыновьях князя Романа Семеновича Новосильского // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Материалы XII Всероссийской научной конференции 3–5 апреля 2007 г. Калуга: Изд-во «Полиграф-Информ», 2008. – С. 124–128.; Шеков А. В. Летописные известия об участии князей Одоевских в Луцком и троцком съездах 1429, 1430 г.[↩]
- Редкие источники по истории России. Вып. 2. (Подг. З. Н. Бочкарева, М. Е. Бычкова) М., 1977., с.112; Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. М., 1785., с.180.[↩]
- Редкие источники по истории России. Вып. 2. (Подг. З. Н. Бочкарева, М. Е. Бычкова) М., 1977., с.43; Родословная книга. // РЛ. Т. 7. Рязань, 2000. – По изданию: Временник Императорского общества истории и древностей Российских. Книга десятая. М., 1851, с.335, 407.[↩]
- Воскресенская летопись. // Русские летописи (далее — РЛ). Т. 3. Рязань, 1998. По изданию: ПСРЛ. Т. XVII-XVIII. СПб, 1856–1859., с.129; Codex epistołaris Vitoldi, Magni Ducis Lithuaniae, 1376–1430. / collectus opera Antonii Prochaska. Cracoviae, 1882, с.688.[↩]
- Codex epistołaris Vitoldi, Magni Ducis Lithuaniae, 1376–1430. / collectus opera Antonii Prochaska. Cracoviae, 1882., с.779.[↩]
- Codex epistolaris Vitoldi magni Ducis Lithuaniae 1376–1430 / Collectus opera Antonii Prochaska // Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Crakoviae: Typis Wład. L. Anczyc et Comp., 1882 № 1298. S. 779.[↩]
- Codex epistolaris Vitoldi magni Ducis Lithuaniae 1376–1430 / Collectus opera Antonii Prochaska // Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Crakoviae: Typis Wład. L. Anczyc et Comp., 1882.- № 1329. S. 799.[↩]
- ПСРЛ. т. 35. с. 58, 59. [↩]
- ПСРЛ. т. 35. с. 58.[↩]
- ПСРЛ. т. 35. с. 59.[↩]
- ПСРЛ. м., 1980. т. 35. с. 34.[↩]
- August von Kotzebue/Switrigail 1820, S. 117–118.[↩]
- LM. Kn. 5. № 137. P. 254–255; ДДГ. № 60. С. 192–193; Леонид, архимандрит. Описание лихвинскаго Покровскаго Добраго мужскаго монастыря // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском
университете. М.: Университетская типография, 1875. Кн. 4. V. Смесь. С. 106–107, 139.[↩] - Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Польско-Литовским. Т. I (с 1487 по 1533 год) // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 35. СПб.: Типография Ф. Елеонскаго и Ко, 1892 (далее – СИРИО. Т. 35). С. 5, 62, 65.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 51, 62.[↩]
- В указателях к СИРИО неверно указано, что эти волости были пожалованы князю Ивану Семеновичу – сыну князя Семена Юрьевича Одоевского (СИРИО. Т. 35. С. 232. Указатели. Стб. 44).[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 136.[↩]
- Аналогичный пример отразился в литовско-рязанских договорах 1427 г., в которых рязанские князья обращаются к Витовту: «господину, осподарю моемоу, великому князю Витовтоу» (ДДГ. №25, 26. С. 67–68). Они называли его «своим господарем», поскольку подчинялись ему еще накануне (См.: CEV. №1181. S. 688). Новосильские же князья поступали на литовскую службу впервые, и во время заключения договора 1427 г. не могли называть Витовта «своим господарем», а себя – «его слугами».[↩]
- Упоминания о других литовских «пожалованиях» потомкам князя Ивана Юрьевича см.: РИБ. Т. 27. №131. Стб. 650–653; №133. Стб. 665–666; Акты Литовской метрики. Т. 1. Вып. 1. 1413–1498 гг. / Собраны Ф. И. Леонтовичем. Варшава, 1896. №207. С. 81; №238. С. 93; №245. С. 95; №251. С. 97; Акты Литовской метрики. Т. 1. Вып. 2. 1499–1507 гг. / Собраны Ф. И. Леонтовичем. Варшава, 1897. №623. С. 103; Lietuvos metrika. Kniga Nr. 6 (1494–1506): Užrašymų knyga 6 / Parengė Algirdas Baliulis. Vilnius, 2007. №122. P. 115; №143. P. 123; №243. P. 166–168; №277. P. 184; №477. P. 281.56 ДДГ. № 60. С. 192–193; LM. Kn. 5. 1993. № 137. P. 254–255; LM. Kn. 5. 2012. № 542. P. 359–360.[↩]
- Леонид (Кавелин), архимандрит. Описание лихвинского Покровского Доброго мужского монастыря // ЧОИДР. Москва, 1875. Кн. 4. V. Смесь. С. 106–107.[↩]
- ДРВ. Ч. 6. С. 450[↩]
- ГИМ. Син. № 667. Л. 63 об. (приписка на полях). Редкие источники по истории России. М., 1977. Вып. 2. С. 116; Зимин А.А. Указ. соч. С. 50.[↩]
- ДРВ, VI, 450 — Синодикъ[↩]
- CEV. №1298. S. 778–780; См.: Беспалов Р. А. Источники о поездке Витовта в область Новосильского и Рязанского княжеств в 1427 году // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 3. Тула, 2008. С. 256–259.[↩]
- Подробнее см.: Беспалов Р. А. К вопросу о терминах «верховские князья» и «Верховские княжества» // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. Вып. 12. Брянск, 2010. С. 26–37.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 51, 62.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 59.[↩]
- ПСРЛ. М.–Л., 1949. Т. 25. С. 301; М.–Л., 1959. Т. 26. С. 252.[↩]
- Антонов А. В. Историко-археологические исследования: Россия XV – начала XVII века. М., 2013., с. 132–134[↩]
- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 3. Л. 1129–1185; БАН. Основное собрание карт. № 420.[↩]
- ДРВ. Ч. 6. С. 450[↩]
- ГИМ. Син. № 667. Л. 63 об. (приписка на полях). Редкие источники по истории России. М., 1977. Вып. 2. С. 116; Зимин А.А. Указ. соч. С. 50.[↩]
- Груша А.И. Кризис доверия? Появление и утверждение правового документа в Великом Княжестве Литовском. М.; СПб., 2019., с. 185–188, 192, 196–197.[↩]
- Lietuvos Metrika, 2007, № 277, p. 183–184.[↩]
- РИБ, 1910, № 133, стб. 652–653;
Lietuvos Metrika, 2007, № 243, p. 166–168.[↩] - Джерела: AGAD, Perg. 7364. 1481 р.[↩]
- Каманин И. Сообщение послов Киевской земли… С. 6.[↩]
- LM. Kn. 4. № 23.2. P. 81[↩]
- Rutkowska G. Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492. (Itineraria Jagiellonów. T. 1.) Warszawa, 2014. S. 350–352, 357–359.[↩]
- ОР РГБ. Ф. 304/III. № 25. Л. 65 об.[↩]
- Казакоў А. У. Невядомае даканчанне караля польскага і вялікага князя літоўскага Казіміра і князя Навасільскага і Адоеўскага Міхаіла Іванавіча 1481 г. С. 298–300.[↩]
- Rutkowska G. Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492. (Itineraria Jagiellonów. T. 1.) Warszawa, 2014. S. 350–352, 357–359.[↩]
- СИРИО. Т. 41. С. 139–140.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 57–58, 59, 65.[↩]
- СИРИО. Т. 41. С. 139–140. На пачатак 1493 г.[↩]
- LM. Kn. 5. 1993. № 27.3. P. 79.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 120.[↩]
- См.: СИРИО. Т. 35. С. 119, 120.[↩]
- LM. Kn. 5. 1993. № 78.2. P. 135; СИРИО. Т. 35. С. 126–127, 130; ДДГ. № 83. С. 330.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 136, 141.[↩]
- Акти Волинського воєводства кінця XV – XVI ст. із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давних у Варшаві) / Підг. до друку А. Блануци, Д. Ващука, Д. Вирського. Київ, 2014. № 2. С. 56–58[↩]
- РИБ. Т. 27. Стб. 650–653, 665–666; АЛМ. Т. 1. Вып. 1. №207. С. 81; № 238. С. 93; №245. С. 95; № 251. С. 97; АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 623. С. 103; LM. Kn. 6. № 122. P. 115; № 243. P. 168; № 477. P. 281.[↩]
- СИРИО. Т. 35. С. 232[↩]
- ДРВ. Ч. 6. С. 450[↩]
- Спиридов: «Записка о старинн. службах русск. благородн. родов», (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV, 488—489; Экземплярский: «Великие и удельные князья северной Руси» (СПб. 1889) I, 252; Сборник Русск. Историч. Общ. XXXV, 1, 3, 4, 7, 16, 59, 65; Карамзин (изд. Эйнерлинга), VI, пр. 544; Разрядная книга — изд. Милюкова («Чтения Московск. Общ. Истории и Древн.», 1902, I) 32, 37, 38.[↩]
- Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 133[↩]
- Спиридов: «Записки о старинных службах русск. благородн. родов». (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV, 489—490; Полн. Собр. Русск. Летоп. VI, 246, 259, 265, VII, 247, 261, 272; Разрядная книга — изд. Милюкова (Чтения Московск. общ. Истории и Древностей 1902, I) 32, 48, 58, 60, 62, 63, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 89, 92; Сборн. Русск. Истор. Общ. XXXV, 3, 4, 7, 17; Карамзин (изд. Эйнерлинга) VI, пр. 544.[↩]
- Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 397.[↩]
- Спиридов: «Записки о старин. службах русск. благородн. родов» (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV, 490—491; Карамзин (изд. Эйнерлинга) VII, пр. 36; Разрядная книга, изд. Милюкова (Чтения Московск. Общ. Истории и Древностей 1902, I) 38, 39, 42.[↩]
- ВОИДР, 1851 г., т. 10, с. 157, 70; Власьев Г. А. Потомство Рюрика. – Спб., 1906 г., т. 1, ч. 1, с. 71.[↩]
- ВОИДР, 1851 г., т. 10, с. 157, 70; Власьев Г. А. Потомство Рюрика. – Спб., 1906 г., т. 1, ч. 1, с. 71.[↩]
- Спиридов: «Записки о старин. службах русск. благородн. родов» (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV, 491—492; Карамзин (изд. Эйнерлинга) VIII, 6, пр. 2; Разрядная книга, изд. Милюкова (Чтения Московск. Общ. Истории и Древностей 1902, I), 70, 76, 79, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 06, 101, 102, 103, 107, 109, 118, 120.[↩]
- Петр. 18: Длг. 1.54, прим.[↩]
- Родосл. Голов., влад. с. Новоспасскаго, стр. 25.[↩]
- Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 340.[↩]
- Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 117.[↩]
- Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст) / Подг. текст К. В. Петров. СПб., 2004. С. 47, 49.[↩]
- Собрание государственных грамот и договоров. Ч. 1. М., 1813. С. 550.[↩]
- Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 271; Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 64.[↩]
- Сборник Русского исторического общества. Т. 129. СПб., 1910. С. 216.[↩]
- Сочинения князя Андрея Курбского // Русская историческая библиотека. Т. 31. СПб., 1914. С. 286–287, 289.[↩]
- Антонов А.В. К истории удела князей Одоевских // Русский дипломатарий. Вып. 7. М., 2001. С. 266–285.[↩]
- Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг.). СПб., 1992. С. 159.[↩]
- Писцовые книги Московского государства. СПб., 1872. Ч. 1.Отд. 1. С. 816.[↩]
- Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 108[↩]
- Брх. I, 184[↩]
- [Брх. К, 184; Длг. I, 54.[↩]
- Спиридов: «Записки о старинных службах русск. благородных родов» (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV 495—496; Разрядная книга (Сибирский Сборник, М. 1845) 2, 3; Долгоруков,: «Российская Родословная книга», т. I.[↩]
- Мил. Др. р. кн. 150[↩]
- Спр. Арх. М. И. Д. д. а. 16 и Мил. Др. р. кн. 171, 174, 178 и 184[↩]
- Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 132, 148, 151, 154, 157, 159, 164–168, 170, 178, 179, 187, 188, 195[↩]
- Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст) / Подг. текст К. В. Петров. СПб., 2004. С. 47, 48[↩]
- Антонов А.В. К истории удела князей Одоевских // Русский дипломатарий. Вып. 7. М., 2001. С. 267[↩]
- Спиридов: «Записки о старинн. службах русск. благородн. родов», (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV, 496; «Разрядная книга» (Сибирский Сборник», М. 1845) 72, 74; Карамзин (изд. Эйнерлинга), Х, пр. 99; Соловьев (изд. т‑ва «Общ. Польза») II, 642, 644.[↩]
- Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 3. М., 1978. С. 122.[↩]
- Синб. сб. 105–7[↩]
- Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 212.[↩]
- Спиридов: «Записки о старинн. службах русск. благородн. родов», (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV; 497—498; Древняя Российская Вивлиофика, IX, 247; Разрядная книга, (Сибирский Сборник, М. 1845) 103, 110, 121, 128, 125; Собрание Госуд. Грамот и Договоров, I, 637, II, 209, 453, 455, 456, 461, 563—563, 588—591, 592, 596, 598, 599, 601—603; Русская Историч. Библиотека II, 328—334, 335, 706; V, 11. Акты исторические II, 398, III, 227; Дополнение к Актам историческим I, 278—288, 294, 299, 308, 309, II, 2, 4—8, 24, 20, 28, 33, 34, 38, 40—45, 47, 48, 57, 71—73, 75; Акты Археограф. Экспедиции II, 43, 294, 315—318, 354—360, III, 125; С. Ф. Платонов, «Очерки по истории смуты в Московском государстве» 456; Полное Собр. Русск. Летоп. III, 264—265, 266. Карамзин (изд. Эйнерлинга.) Х, пр. 359, XII, 190, 192, пр. 810; Соловьев (изд. т‑ва «Обществ. Польза») II, 998, 999, 1019, 1021, 1022, 1023, 1107; Бантыш-Каменский, «Обзор внешних сношений России», IV, 1—13, 144, 146, 147.[↩]
- Синб. сб. Розр. 103, 110, 125—6.[↩]
- Там же[↩]
- Крмз. X, прим. 315.[↩]
- Д. Р. В. XX, 87, 90 и Опис. Погр. Тр.-Серг. Л., 34, № 340; Леон.Чт. 1879, II, 90.[↩]
- БС.Ч.2.С. 30,44.[↩]
- ПК 530. Л. 169.[↩]
- Спиридов; «Записки о старин. службах русск. благородн. родов» (Рукопись Имп. Публ. Библ.) IV, 498—500; «Древняя Российская Вивлиофика» (2 изд.) IX, 247; «Разрядная книга» (Сибирский Сборник, М. 1845), 110, 124; «Дворцовые Разряды» I, 445; «Книги разрядные» I, 564, 871, 926, 1034, 1154, 1262, 1868; «Собрание Государств. Грамот и Договоров» III, 92, 94, 95, 99, 104, 170, 180, 279, 281, 282, 283; «Русск. Историч. Библиотека», II, 334; «Акты Московского Государства», 1, 40, 138; «Акты историч.», III, 12—30, 32—37, 414—429, 430—448; «Акты Археограф. Экспедиции» II, 43, 347, III, 21—28, 53; С. Ф. Платонов: «Очерки по истории смуты в Московском Государстве», 559; Карамзин (изд. Эйнерлинга) Х, 315, 456; Соловьев (изд. т‑ва «Общ. Польза») II, 1018, 1034, 1035, 1054, 1055, 1058, 1061.[↩]
- Синб. сб. Разр. 102, 110.[↩]
- Синб. сб. Разр. 126.[↩]
- Крмз. X, прим. 315.[↩]
- Дворц. Разр. I, 120; Д. Р. В. XX, 89.[↩]
- Дв. Розр. I, 123.[↩]
- Дв. Розр. I, 300.[↩]
- Дв. Розр. I, 385, II, 18.[↩]
- Д. Р. В. VI, 131.[↩]
- Дв. Розр. I, 654. 766,1220.[↩]
- Вкладная книга Троице‑Сергиева монастыря, М., 1987, с. 109 (Далее: Троицкая вкладная); Ю.В. Готье, Замосковный край в XVII в., М., 1937, с. 232.[↩]
- Моск. ст. кн. 9894, д. 4; Яросл. м. кн. 9, Д. 10.[↩]
- ЧОИДР. 1895. Кн. I. Отд. I. С. 5, 14.[↩]
- ПК 588. Л. 180–190, 201–216, 363 об.; ПК 589. Л. 72.[↩]
- РНБ. OP. F.IV. № 529. Л. 1372, 1470; ПК 11829. Л. 1449.[↩]
- ПК 9806. Л. 28 об.; ПК 9807. Л. 569 об., 653 об.; ПК 264. Л. 334 об.; Холмогоровы. Вып. III. С. 130.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 665. Л. 67, 104; 3BK. С. 1182.[↩]
- Холмогоровы. Вып. III. С. 130–131; Власьев Г. А. Т. I. Ч. I. С. 76.[↩]
- ИРГО. Вып. IV. С. 387.[↩]
- Спис. погр. Тр.-Серг. Л., 6, № 41; Леон. Чт. 1879, II, 81.[↩]
- Тверск. Акты, I, 127.[↩]
- Леон. Чт. 1879, II, 90.[↩]
- Спис. Погр. Тр.-Серг. Л., 34, № 341; Длг. I, 55.[↩]
- Длг. I, 55.[↩]
- Петр., 18.[↩]
- Брх. I, 183; Длг. I, 55[↩]
- Спр. Арх. М. И. Д., Д. А., 16.[↩]
- Там же[↩]
- Брх. I. 183.[↩]
- РНБ. OP. F.IV. № 529. Л. 1375; Власьев Г. А. Т. I. Ч. I. С. 108.[↩]
- ПК 9806. Л. 112.[↩]
- Надп. Тр.-Серг. д., 41, № 149.[↩]
- Яросл. м. кн. 9, д. 10.[↩]
- Лоб. Родосл.; Долг. I, 55.[↩]
- ПК 209. Л. 1355; ПК 549. Л. 438 об.[↩]
- ПК 9806. Л. 112.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 662. Л. 75; Кн. 663. Л. 16.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 663. Л. 15 об.; Кн. 665. Л. 31 об.; ПК 94. Л. 53 об.[↩]
- Дворц. Разр., I, 632; Увар., 206, л. 106 об.[↩]
- Лоб. Родосл.; Долг. I, 55[↩]
- Спиридов: «Записки о старинных службах русск. благородн. родов» (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV, 500—506; Древняя Российская Вивлиофика (2 изд.) IX, 252; Соловьев (изд. т‑ва «Общ. Польза») II, 1273, 1274, 1501, 1515, 1519, 1663, 1670, 1698—1704, III, 26—42, 79—81, 119, 123, 161—169, 184, 231—235, 245—247, 260, 266—268, 511, 531, 532, 610, 611, 616, 816; Книги разрядные II, 520, 545, 547, 548, 549, 554, 555, 558, 562, 564, 565, 568—571; 578—581, 628, 630, 631, 1114, 1116; Дворцовые разряды, I, 317, 460, 514, 525, 526, 622, 629, 634, 724, 733, II, 27, 34, 35, 38, 43, III, 27, 78, III, 117, 150; 179, 403, 404, 411, 419, 422, 432, 433, 450, 474; Русская Истор. Библиотека, V, 428, Х, 328, 320, 343, 352, 413, 416, 418, 419, 421, 423, 426, 427, XI, 17, 368, 370, XII, 1189; Собрание Государств. Грамот и Договоров, I, 037, II, 209, 453, 455, 456, 461, 553, 562, 589, 592, 596, 598, 599, 603, III, 92, 94, 95, 99, 104, 170, 180, 279, 280, 282, 283; Акты Московск. Государства, I, 512, 551, 554, 556, 567; 570, II, 16, 34, 63, 107, 170, 175, 176, 179, 234—236, 239, 240, 244, 245, 259, 267, 284, 391, 433, 505, 509, 516, 526, 532, 534, 545, 554, 555, 562, 572, 578, 613, III, 29, 39, 46, 47, 66, 73, 78, 82, 88, 90, 91, 100, 104, 108, 109, 111, 114, 126, 132, 134, 279, 325, 451, 507, 515, 553, 567; Акты исторические, III, 389, 394—395, 397, 403, 408, IV, 20, 22, 32, 35, 37, 45, 67, 78, 266, 322, V, 39, 479; Дополнения к актам историч., II, 270, 278, III, 40, 46, 92, 95, 510, V, 99, 220, VI, 32, 189, 190, VIII, 21, 23, 184, 343, IX, 105, Х, 31, 39, 44, 180, 181; Акты Археогр. экспедиции, III, 344, 355, 371, IV, 28, 40, 122, 128, 197—198, 491; Сборник Муханова, 483, 495, 497, 498, 506, 508, 510, 521, 524, 527, 536, 537, 538, 540; Бантыш-Каменский: «Собрание дипломатических сношений России» I, 23, III, 7, 130, 133, 134, 136, 138, 147, 152, 314, 315; Строев: «Историко-юридическое исследование Уложения» (СПб. 1833) 14—15, 18—20, 118—119, 122—123; Загоскин: «Уложение царя Алексея Михайловича и земский собор 1648—49 г. (Казань 1879) 16, 28—52, 61—63; «Чтения Москов. Общ. Истории и Древностей» 1887, кн. III, отд. IV, 4—7, 9, 13—14, 59—61; Сергеевич: «Земские соборы в Московском Государстве» (Сборн. Государств. знаний, т. II, стр. 42—43); Гиоббенет: «Историческое исследование дела патриарха Никона» (СПб. 1882) II, 57—80, 609—636; Субботин: «Дело патриарха Никона» (М. 1862) 59—67; «Собрание писем царя Алексея Михайловича» (М. 1856) 217—237; «Москвитянин» 1851 г., № 2, стр. 202—204, № 14, стр. 146—151; Малиновский: «Историч. доказательство о давнем желании польского народа присоединиться к России» (Труды и Летописи Московск. Общ. Истории и Древн. VI) 63—70, 215—253; Берх: «История царствования Алексея Михайловича» I, 36, 40, 45, 257; «Северный Архив» 1825 г., ч. XVII, 296—297. Долгорукий «Русская родословная книга» т. I. «Н. И. Одоевский и его переписка с Галицкой вотчиной». М. 1903.[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А., 2 об.[↩]
- Дворц. Равр. I. 634. 784 и 1218.[↩]
- Там же[↩]
- Кн. Разр. II, стр. 520, 546 — 71.[↩]
- Др. Рос. Вивл., XX, стр. 99; Дворц. Разр., II, стр. 622.[↩]
- Дворц. Разр., II, 639, 662, Барсуковъ, Городовые Воеводы, 9 и 533[↩]
- Спр. Разр. Арх. д. А., З об.[↩]
- Собр. Гос. Pp. II Догов., III, 420; Спр. Разр. Арх. д. А.. 3 об.[↩]
- Двор. Разр., II, 729 И 760.[↩]
- Там же, III, 27.[↩]
- Там же, 78—9.[↩]
- Собр. Гос. Грам. и Догов., III, 439; Соловьевъ, Исторія Россіи, X, 142 — 3.[↩]
- Дворц. Разр., III, 268 II 339; Спр. Разр. Арх., д. А.. 4; Барс., Город. Воев., 88 и 533.[↩]
- Там же[↩]
- Дворц. Разр. III, 411.[↩]
- d, 419, 432—9, 450—3, 467, 485 и приб. 61; Соловьев, Исторія Россіи.[↩]
- Собр. Гос. Грам. и Догов. IV, 12; Сол., Ист. Рос.[↩]
- Дворц. Разр., III. прибавл. 313; Сол., Ист. Рос.[↩]
- Дворц. Разр., III, 838—9; Др. Рос. Вивл. XX, 389.[↩]
- Дворц. Разр., III, 873[↩]
- Там же, 989 и 1103.[↩]
- Собр. Гос. Грам. и Догов., IV, 372.[↩]
- Акты Юрид. быта, II, 621[↩]
- РГИА, ф. 1088, оп. 3, д. 22, л. 9.[↩]
- Дворц. Разр., III, 1464.[↩]
- Холм., Чт. 1892, I, 79.[↩]
- РГАДА. Ф. 233. Кн. 665. Л. 67, 104; 3BK. С. 1182.[↩]
- Холмогоровы. Вып. III. С. 130–131; Власьев Г. А. Т. I. Ч. I. С. 76.[↩]
- ИРГО. Вып. IV. С. 387.[↩]
- Барс., Р. Шерем., VII, 9, 339—40; Ю. Арсеньев, кн. Н. Ив. Одоевскій, 5, прим. 6.[↩]
- Спр. Арх. Кол. Ин. д. д. А, 16.[↩]
- Дворц. Разр., I, 150; Барс., Город. Воев., 46 и 533.[↩]
- Там же, 455; Там же, 184 и 533.[↩]
- Там же, 505; Др. Рос. Вивл., XX, 92.[↩]
- Дворц. Разр., 1,6 32.[↩]
- Там же, 845 и 1030; Барс., Город. Воев., 153 и 533[↩]
- Чт. и. О. И. И Д. Р. 1885, IV, 116.[↩]
- Спис. погр. Тр.-Серг. Л., 6. № 40; Леонидъ, Чт. 1879. II, 81; Долг. I, 55.[↩]
- Спиридов: «Записки о старинн. службах русск. благородн. родов» (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV, 507; «Древняя Российская Вивлиофика» (2 изд.) IX, 252; «Дворцовые Разряды» III, 82, 84, 85, 154; «Акты Археограф. Экспедиции», IV, 83; «Русск. Историч. Библиотека», Х, 443, 444; Соловьев (изд. т‑ва «Общ. Польза»), III, 610, 611.[↩]
- Словарь книжников и книжности Древней Руси, вып. 3 (XVII в.), ч. 2, с. 325.[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А., 5 oб.[↩]
- Дворц. Разр.. II. 727.[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А., 5 об.[↩]
- Дворц. Разр. III.82, 114 н 291.[↩]
- Чт. 1885, IV, 116.[↩]
- Галич, с. кн. 54, д. 42.[↩]
- Ряз. с. кн. 13525, д. 15. Барс., Род Шерем.[↩]
- Холмогор. Чтен. 1886 г. 111, 131–3.[↩]
- Спис. погр. Тр.- Серг. Л.. 6; Др. Р. Вив. XVI. 314.[↩]
- Брх. I, 183; Длг. I, 55[↩]
- Дворц. Разр. II, 72.[↩]
- Там же, III, 415, 426–8, 463.[↩]
- Там же, 470; Др. Рос. Вивл., ХХ, III.[↩]
- «Сочинения царя Алексея Михайловича», с. 518.[↩]
- Дворц. Разр. III, 471 и 477.[↩]
- Дополнения к т. III Дворцовых разрядов, СПб., 1884 (Далее: ДДР), стб. 62.[↩]
- Др. Рос. Вифл. XX, 112; XVI, 320; Спис. погр. Троице-Серг. Л„ 6, № 43.[↩]
- Чт. 1892, I, 87.[↩]
- Моск. с. кн. 9924, д. 9[↩]
- Чт. 1892, I, 164[↩]
- Холм., мат. ист. Темник. 32–4, 54.[↩]
- Дворц. Разр., III, 1055 и 1073.[↩]
- Спис. погр. Тр.-Серг. Л., 6, № 36.[↩]
- Спиридов: «Записки о старинных службах русских благородных родов» (Рукопись Имп. Публ. Библ.) IV, 509—510; Древняя Российская Вивлиофика (2 изд.) IX, 254; Дворцовые разряды III, 415, 418, 462—465; Русская Историческая Библиотека Х, 443, 444.[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А., 6 об.[↩]
- Дворц. Разр„ III, 113.[↩]
- Там же, 415, 462 и 464.[↩]
- Спис.погр. Троице-Серг. Л., 7, № 51.[↩]
- Уваровск. Родосл., к. 206. л. 99 об. и Влдмр. ст. кн. 121, д. 11.[↩]
- Арх. кн. Курак. I, 246. 360[↩]
- Влдмр. ст. кн. 134, д. 18.[↩]
- Тверь ст. к. 15, д. 12[↩]
- Спиридов: «Записки о старин. службах русск. благородн. родов» (Рукоп. Имн. Публ. Библ.) IV, 510—518; Древняя Российская Вивлиофика (2 изд.) IX, 254—256; Соловьев (изд. т‑ва «Общ. Польза») III, 331, 816, 903; Акты историч. IV, 342, 394—402, 406, 408, 410—411, 413, 424, 426, 483, 493—405, 499, 504, 510, V, 185, 173; Дополнения к Актам историч. V, 77, VI, 256, 257, 259—261, 268, 272, 275, 282—283, 285—289, 301, 312—313, 330, 340, IX, 112, Х, 31, 32, 39, 167, 168, 178, 360, 442; Акты Археограф. Экспедиции IV, 409; Собрание Государств. Грамот и Договоров IV, 220, 344, 372, 407; Бантыш-Каменский: «Обзор внешних сношений России» III, 154.[↩]
- Характеры вельмож и знатных людей в царствование Алексея Михайловича, с. 299[↩]
- Рукописные книги собрание М.П. Погодина. Каталог, вып. 2, СПб., 1992, № 399.[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А.,7.[↩]
- ДР, т. III, 418, 503; ДДР, стб. 21, 34, 43, 53, 89, 107, 213, 215, 236, 264, 272, 279, 289.[↩]
- ДДР, стб. 392, 394‑395.[↩]
- Барсуков, Списки городовых воевод, с. 11.[↩]
- «Характеры вельмож и знатных людей в царствование Алексея Михайловича», с. 299.[↩]
- Дворц. Разр. III, 765.[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А., 7—8.[↩]
- Дворц. Разр., III, 873.[↩]
- Там же, 884, 920 и 926; Спр. Разр. Арх., д. А., 7—8; Барс., Город, воев., 11 и 533.[↩]
- А.Г. Маньков, ред., Записки иностранцев о восстании Степана Разина, Л., 1968, с. 68‑69.[↩]
- РГАДА, ф. 233, д. 681, л. 136, 197, 222.[↩]
- ДР, т. III, стб. 1635‑1640[↩]
- Седов, Закат Московского царства, с. 260–265.[↩]
- Архив СПбИИ, кол. 40, № 56, письмо № 78, л. 83; РГАДА, ф. 159, оп. 1, д. 885, л. 150, 152.[↩]
- Там же[↩]
- РГАДА, ф. 396, оп. 2, д. 730, л. 114 об., 115, 116 об, 117 об., 118 об., 119, 120‑121 об., 146‑147 об., 122, 123‑123 об., 148‑149 об.[↩]
- А.А. Матвеев, «Записки», Рождение империи, М., 1997, с. 384.[↩]
- Архив кн. Ф.А. Куракина, изданный под редакцией М.И. Семевского, СПб., 1890, с. 44‑45, 246.[↩]
- Кочегаров, Речь Посполитая и Россия в 1680‑1686 годах, с. 256.[↩]
- Собр. Госуд. Грам. и Догов. IV, 372.[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А., 7–8.[↩]
- Лавров, Регентство царевны Софьи Алексеевны, с. 113[↩]
- РГИА, ф. 1088, оп. 3, д. 23, л. 6–7.[↩]
- Дворц. Разр., III, 1228.[↩]
- Мск. ст. к. 9963, д. 4.[↩]
- Ряз. ст. кн. 13501. д. 27.[↩]
- Чт. 1892, I, 81.[↩]
- Холмог. Чт. 1802, 1, 153.[↩]
- Моск. ст. кн. 9924, д. 9.[↩]
- Спис. погр. Троице-Серг. Л., 6, № 39.[↩]
- Сообщ. гр. Соллогуб.[↩]
- Спиридов: «Записки о старин. службах русск. благородн. родов» (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV, 513—514; Древн. Росс. Вивлиофика (2 изд.) IX, 256—257; Соловьев (изд. т‑ва «Общ. Польза») III, 511, 611; Акты историч. V, 52, 54, 59—60, 62, 75; Дополнение к Актам историч. VIII, 253, IX, 59, 65, 68, 134, 167, 303; Акты Москов. Государства II, 386, 387, III, 565; Собрание Государств. Грамот и Договоров IV, 407; Бантыш-Каменский: «Обзор внешних сношений России» III, 147.[↩]
- Дворц. Разр. III, 520.[↩]
- Там же, 874.[↩]
- Там же, 932.[↩]
- РГАДА, ф. 210, боярские списки, д. 14, л. 2 об.[↩]
- Там же, л. 14.[↩]
- Архив СПбИИ, ф. 181, оп. 1, д. 2716, л. 17.[↩]
- Там же, ф. 132, оп. 1, картон 26, д. 23, л. 4.[↩]
- Архив СПбИИ, ф. 181, оп. 1, д. 2726, л. 21, 35 об., 37.[↩]
- РГАДА, ф. 143, оп. 2, д. 1269; д. 1315, л. 87, 118.[↩]
- ДР, т. IV, стб. 187; РГАДА, ф. 210, Московский ст., стб. 597, л. 222, 287; стб. 641, л. 503.[↩]
- Собр. Госуд. Грам. и Догов., IV, 4071[↩]
- Спис. погр. Тр.-Серг. Л., 7, № 50; Леон., Надп. Тр.-Серг. Л., 38, № 139.[↩]
- Ряз. ст.кн. 13525, д. 1. 1669, продал Сем. Ив. Заборовскому унаследованное от отца с. Никольское, Моск. у. ((Чт. 1885, ІV, 116.[↩]
- Архив СПбИИ, ф. 181, оп. 1, д. 2816, л. 1–2.[↩]
- В.И. Малышев, «О вкладной записи на лицевом сборнике XVII в. из Коллекции Ф.А.Кашкина» // Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ) т. XXVII, Л., 1972, с.454. В этот же храм он пожаловал и Требник Петра Могилы (Арсеньев, Ближний боярин князь Никита Иванович Одоевский, с. 9).[↩]
- Ряз. ст. кн. 13525. д. 15[↩]
- Мурм. ст. кн. 18, д. 33.[↩]
- Дворц. Разр. III,1055 и 1073.[↩]
- Моск. ст. кн. 9894, д. 4[↩]
- Галич. ст. л. кн. 2. д. 19.[↩]
- Спис. погр. Тр.-Серг. Л., 7, № 47.[↩]
- «Книга дядькам и мамам и боярыням верховым и стольникам царевичевым», с. 49.[↩]
- Леон., Надп. Тр.-Серг. Л., 41, № 154; Чт. 1S92, I, 154; Троицкая вкладная, с. 110.[↩]
- Моск. ст. кн. 9924, д. 9.[↩]
- Чт. 1892, I, 154.[↩]
- Алексин, ст. кн. 68, д. 9.[↩]
- Спиридов: «Записки о старинных службах русск. благородн. родов». (Рукоп. Имп. Публ. Библ.) IV, 515—616; Древняя Российская Вивлиофика (2‑е изд.) IХ, 257—259; Русская Истор. Библиотека V, 871, XI, 369, 370, XII, 584, 589; Разрядные книги II, 1114, 1116; Собрание Госуд. Грамот и Договоров IV, 319, 407; Дополнение к Актам историческ. VII, 102, 318, VIII, 20, 21, 23, IX, 105, 154, 202, Х, 31, 173, 175, 178, 180—181, 183, 186, 394.[↩]
- «Книга дядькам и мамам и боярыням верховым и стольникам царевичевым», с. 49.[↩]
- Троицкая вкладная, с. 110.[↩]
- И. Козловский, Ф.М. Ртищев, Киев, 1906, с. 17, 169, 446[↩]
- «Книга дядькам и мамам и боярыням верховым и стольникам царевичевым», с. 50.[↩]
- РГАДА, ф. 210, боярские списки, д. 14, л. 4; ф. 233, оп. 1, д. 685, л. 76 об..[↩]
- РГАДА, ф. 210, Боярские списки, № 14, л. 4, 6; Московский ст., стб. 501, л. 1536.[↩]
- Там же, Московский ст., стб. 484, л. 119.[↩]
- Там же, ф. 396, оп. 2, д. 252, л. 84–85 об.[↩]
- Там же, ф. 210, Московский ст., стб. 621, л. 10, 29; ф. 143, оп. 2, д. 1195, л. 1, 3.[↩]
- С.И. Котков, Грамотки XVII – начала XVIII века, М., 1969, с. 131, 141.[↩]
- ОР РНБ, ф. 532, оп. 2, д. 4619, л. 35–37.[↩]
- РГАДА, ф. 396, оп. 2, д. 725, л. 32, 33, 33 об.; ф. 143, оп. 2, д. 1315, л. 4–4 об.[↩]
- РГАДА, ф. 210, Белгородский ст., стб. 1157, л. 53‑59.[↩]
- Там же, ф. 143, оп. 2, д. 1226, л. 1‑4.[↩]
- См.: П.В. Седов, «Челобитная князей Одоевских о своих родовых землях накануне отмены местничества», в С.В. Стрельников, сост., Исследования по истории средневековой Руси: К 80‑летию Юрия Георгиевича Алексеева, М.; СПб., 2006, с. 338‑344.[↩]
- РГАДА, ф. 210, Боярские списки, № 17, л. 3 об.[↩]
- Князь В.Ф. Одоевский относил лекарства царю также 1 и 6 февраля 1680 г. — ОР РНБ, ф. 532, оп. 2, д. 4619, л. 72, 75, 77).[↩]
- РГАДА, ф. 210, Московский ст., стб. 641, л. 779; Боярские списки № 19, л. 2 об. (В справочнике Маршалла По дата пожалования князя В.Ф. Одоевского в дворецкие указана ошибочно: 5 мая 1680 г. — По, Российская элита в XVII веке, т. I, с. 430[↩]
- Н.А. Бакланова, Торгово‑промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в., М., 1959, с. 24).[↩]
- Отдел письменных источников Государственного исторического музея, ф. 440, оп. 1, д. 366, л. 56, 82 об.[↩]
- С.М. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. VII, М., 1991, с. 304.[↩]
- РГАДА, ф. 396, оп. 1, д. 19089.[↩]
- З.И. Сергий (Спасский), архимандрит, Историческое описание московского Знаменского монастыря, что на старом государевом дворе, М., 1866, с. 58.[↩]
- Кочегаров, Речь Посполитая и Россия в 1680‑1686 годах, с. 283.[↩]
- Богоявленский, Приказные судьи, с. 16, 22, 180.[↩]
- Paul Bushkovitch, Peter The Great: The struggle for Power, 1671‑1725, Cambridge, 2001, c. 139.[↩]
- Архив стольника Андрея Ильича Безобразова, ч. I, М., 2012, с. 321, 323, 328.[↩]
- Архив СПбИИ, ф. 181, оп. 1, д. 3105, л. 2–3.[↩]
- Архив стольника Андрея Ильича Безобразова, ч. I, с. 388.[↩]
- Спис. погр. Тр.-Серг. Л., 7, № 49; Леон., Надп. Тр.-Серг. Л.. 38, № 139.[↩]
- Чт. 1892, І, 87 и 154.[↩]
- Барс., Родъ Шерем., VII, 272; Ряз. ст. кн. 13476, 46.[↩]
- Чт. 1886, III, 69 — Селец, дес.]. Mоск. же у. с. Воскресенским (Василево) ((Чт. 1892, I, 154.[↩]
- Там же, 87.[↩]
- Барс., Род Шерем., VII, 273; Ряз. ст. кн. 13476, д. 46.[↩]
- Ряз. ст. кн. 13625, д. 15.[↩]
- Длг. I, 55; Ряз. ст. кн. 13525, д. 15.[↩]
- Тверь, ст. кн. 16, д. 12.[↩]
- Длг. I, 55; Арх. кн. Куракина, I, 360.[↩]
- Тверь, ст. кн. 15. д. 12.[↩]
- Моск. ст. кн. 9924, д. 9; Чт. 1892, I, 81.[↩]
- Род кн. Голиц., 125—6.[↩]
- Там же[↩]
- Барс. Род Шерем., VII, 344.[↩]
- Чт. 1885, ІІІ, 56.[↩]
- Mocк. cт. кн. 9897, д. 5.[↩]
- Барс., Род Шерем. VII, 351.[↩]
- Барс., Родъ Шерем., VII, 344.[↩]
- Барх. I, 184; Длг. I, 55.[↩]
- РГАДА, ф. 210, Боярские списки, № 21, л. 15 об.; Соловьев, История России с древнейших времен, кн. VII, с. 315.[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А., 11 об.; Др. Рос. Вифл., XX, 432.[↩]
- Диринъ, Ист. Л.-Гв. Семен, п., II, 130.[↩]
- Диринъ, Ист. Л.-Гв. Сем. п., II, 130.[↩]
- Барс., Родъ Шерем., VII, 344.[↩]
- Чт. 1892, I, 87, 164.[↩]
- Ряз. ст. кн. 13525, д. 15.[↩]
- Арзм. ст. кн. 2, д. 50.[↩]
- Чт. 1895, III, 32.[↩]
- Барс., Родъ Шерем., VII, 344.[↩]
- РГИА (Российский государственный исторический архив), ф. 1088, оп. 3, д. 22. л. 6.[↩]
- Власьев, Потомство Рюрика, т. I, ч. 1, с. 88[↩]
- А.И. Рогов, «Новые данные о составе учеников Славяно-греко-латинской академии», История СССР, 1959, № 3, с. 143.[↩]
- РГАДА, ф. 210, Боярские списки, № 21, л. 15 об.; Соловьев, История России с древнейших времен, кн. VII, с. 315[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А., 12; Др. Рос. Вивл. XX, 482.[↩]
- Сен. Арх., VII, 671; Сузд.
ст. кн. 41, д. 34.[↩] - Чт. 1892, I, 154–5[↩]
- Родъ кн. Голицыныхъ, 121 и 129; Спис. погр. в Тр.-Серг. Л., 7, № 46; Леон. Надп. Тр.-Серг.
Л., 38, № 139.[↩] - Сузд. ст. Кн. 41, д. 34 и Муром, ст. кн. 13, д. 41 и кн. 51, д. 1.[↩]
- Там же[↩]
- РГАДА, ф. 210, Боярские списки, № 21, л. 15 об.; Соловьев, История России с древнейших времен, кн. VII, с. 315.[↩]
- Диринъ, Ист. л. гв. Сем. п., II, 130.[↩]
- Герольдм. конт., кн. 2, л. 414.[↩]
- Сен. Арх. VII., 650.[↩]
- Чт. 1892, I, 87 и 154.[↩]
- Сенат. Арх., VII, 650.[↩]
- Барх. I, 184; Долг. I, 56[↩]
- Спр. Разр. Арх., д. А., 13 и об.[↩]
- Там же[↩]
- Чт. 1892, I, 154.[↩]
- Ряз. ст. кн. 13525, д. 15.[↩]
- Ряз. ст. кн. 13525, д. 15.[↩]
- Сузд. ст. кн. 2, д. 53.[↩]
- Баран., II, 153, № 3075.[↩]
- Баран. III, 329, № 10721; Сен. Арх., кн. S7, стр. 129.[↩]
- Холмогоровъ, V, 131—3.[↩]
- Долг. I, 50 и 91.[↩]
- Галич. ст. кн. 2, д. 19. 1722, кн. Евдок. Юр. Долгорукова просила о выкупе имения брата своего родного, кн. Мих. Юр. Одоевского ((Ряз. ст. кн. 13541, д. 13.[↩]
- Долг. I, 56 и 911.[↩]
- Долг. I, 56 и 91.[↩]
- Длг. I, 56; Чт. 1895, III, 32; Сб. И. Р. И. О., XI, 232.[↩]
- Сб. И. Р. И. О., XI, 232.[↩]
- Герольдм. Конт. кн. 7, л. 19.[↩]
- Чт. 1895, III, 32.[↩]
- Чт. 1895, III, 32[↩]
- Долг. I, 50.[↩]
- Герольдм. Конт. кн. 7, л. 19; чт. 1895, III, 32.[↩]
- Баран.. II, 551, № 0687; III, 16, № 8092, III, 280, № 10346[↩]
- Чт. 1895, III, 32 — Др. Сосенск. ст.[↩]
- Моск. ст. кн. 9958, д. 36; Холмог., чт. 1892, I, 108 и 192.[↩]
- Моск. ст. кн. 9922, д. 42.[↩]
- Моск. ст. кн. 9958, д. 36.[↩]
- Холмог., Чт. 1892, I, 87.[↩]
- Там же[↩]
- Долг. I, 56.[↩]
- Моск. акт. кн. XVIII в., VII. 43.[↩]
- Там же, VIII, 244.[↩]
- Сенатск. Арх., VII, 650; Бильб., Ист. Ек. И, И, 752; Сборн. И. Р. И. О., LXII, 102.[↩]
- Баран., И, 282, № 4353; И, 328, № 4796; П. 698, № 7903; III, 25, № 8176; III, 153, № 9288; UI, 188, № 9599; III, 352, № 10903 и III, 455, № 11776.[↩]
- Бильб., Ист. Ек. II, 147.[↩]
- Холмог. Чт. 1892, I, 87.[↩]
- Сант. Пет. Некр. 95; Опись Ал. Невск. Л., 93, № 43.[↩]
- Род. кн. Волк., 746; Длг. I, 56.[↩]
- Моск. акт. кн. ХVIII в.,
XII, 6.[↩] - Надгр. Донск. мон.[↩]
- Длг. I, 5.[↩]
- La Nouvelle Revue, 15 mars 1905, Ch. Gust, de Lilienfeld, Pr. Schahovsk.-Strcchn.[↩]
- Костом., Русск. Ист., II, 244; Соловьев, II. Росс., XXI, 281.[↩]
- Там же.[↩]
- Долг. I, 56[↩]
- Холмог. Чт. 1892 I, 108.[↩]
- Моск. ст. кн. 9958, д. 36.[↩]
- Моск.акт.кн. ХVIII в., XII, 2.[↩]
- Моск. ст., кн. 9958, д. 36.[↩]
- Холмог., Чтен. 1886 г. III, 131—3.[↩]
- Моск. акт. кн. XVIII в., XII, 153.[↩]
- Родосл. кн. Яросл. губ. 1787—96 гг. V, 37.[↩]
- Там же[↩]
- Долг. I, 56[↩]
- Там же, Л.-Р., 1873 I, 175.[↩]
- Там же[↩]
- Долг. I, 56.[↩]
- Полн. сп. шеф., 43[↩]
- Баран., III, 444, № 11689[↩]
- Бильб. Ист. Екатерины II, II, 463 и 752.[↩]
- Там же; Моск. акт. кн. XVIII в., ХII, 160[↩]
- Бильб. Ист. Екат. II, 493 и 752.[↩]
- Моск. акт. кн. ХVIII в., ХII, 160.[↩]
- Бильб. Ист. Екат. II, ІІ, 463 и 752.[↩]
- Баран, ІІІ, 444, № 11689.[↩]
- Долг. I, 56.[↩]
- Санк. Петерб. Некр. 95.[↩]
- Разд. акт, д. А, 59 об.[↩]
- Сен. Арх, І, 144.[↩]
- Санк. Петерб. Некр.
95[↩] - Санк. Петерб. Некр, 96; Сб. И. Р. И. О. LXII, 1011.[↩]
- Сб. и. Р. И. О., LXII,10[↩]
- Долг. I, 56.[↩]
- Сб. И. Р. И. О., LXII, 10, 102.[↩]
- Бильб., Ист. Екат. II, II, 464 и 752.[↩]
- Разд. акт, д. А., 56 об.[↩]
- Полн. спис. шеф., 54.[↩]
- Родосл. табл., д. А., 65.[↩]
- Опис. Сп.-Андр. монаст., 96.[↩]
- Л.-Р., 1873, I, 17 5 и 177.[↩]
- Долг. I, 56; Сб. И. Р. И. 0., LXII, 102.[↩]
- Долг. I, 56.[↩]
- Надгр. Донск. мон.[↩]
- Диринъ, Ист.
л.-гв. Сем. п., II, 130.[↩] - Там же[↩]
- Родосл. табл., д. А., 65.[↩]
- Надгр. Донск. мон.[↩]
- Надгр. Донск. мон., [↩]
- Яросл. мол. кн. З5, д. 3.[↩]
- Надгр. Донск. мон., у Долгорукова год смерти ее показан 1808, что несогласно с надписью надгробия.[↩]
- Долг. I, 56[↩]
- Разд. акт., д. А., 59 об.[↩]
- Долг. І, 561.[↩]
- Родъ кн. Трубецкихъ, 147,
№ 43.[↩] - Там же[↩]
- Долг. I, 56.[↩]
- Надгр. Ал.-Невск. Л.[↩]
- Долг. I, 50.[↩]
- Чт. 1905, III, отд. IV, 311.[↩]
- Долг. I, 56.[↩]
- Там же.[↩]
- Долг. I, 661[↩]
- Метрика, д. А., 48.[↩]
- Родосл. Росп., д. А., 65.[↩]
- Долг. I, 56 и 58.[↩]
- Родосл. Росп., д. Л., 65.[↩]
- (Долг. I, 66.[↩]
- Родосл. Росп., д. Л., 65.[↩]
- Долг. I, 57.[↩]
- Надгр. Ал.-Невск. Л.[↩]
- Опред.
Моск. Двор. Собр., д. А., 53.[↩] - Формуляр, д. А., 89—92 и 94 об.; метрика сына. д. А., 21 об.[↩]
- Долг. I, 57.[↩]
- Надгр. надп.; Опред. Моск. Двор. Собр., д. А., 53.[↩]
- Л.-P. I, 300; Надгр. надп.[↩]
- Долг. I, 57.[↩]
- Долг. I, 67.[↩]
- Там же[↩]
- Л.-Р. 1, 301, Длг. I, 57.[↩]
- Л‑Р. 1, 301, Длг. I, 57.[↩]
- Долг. I, 57; Родосл. табл., д. А.[↩]
- Формуляр. д. А., 89—92 и 94 об.[↩]
- Формуляръ, д. А., 89—92 и 94 об.[↩]
- Метрика сына, д. А., 21 об.[↩]
- Санк, Петерб. Некроп., 95.[↩]
- Долг. I, 57; Родосл. табл., д. А.[↩]
- Формуляр, д. А., 61—3; Долг. I, 57.[↩]
- Формуляр, д. А.. 61—3.[↩]
- Долг, I, 57; Опис. Спасо-Андрон. мон.[↩]
- Долг. I, 57; Родосл. табл., д. А.[↩]
- Санк.. Петерб. Некроп., 96.[↩]
- Полн. спис. шеф., 153.[↩]
- Санк.Петер.Некр., 96; Опис. Ал.-Нев. Л„ 115, № 294.[↩]
- Долг. I, 57; Родосл. табл., д. А.[↩]
- Долг. I, 57; Родосл. табл., д. А.[↩]
- Саит. Петер. Некроп., 158.[↩]
- Саит. Петер. Некроп., 158; Метр. внука, д. А. кн. Щерб., 204[↩]
- Долг. I, 57; Родосл. табл., д. А.[↩]
- Надгр. Донск. мон.[↩]
- Русск. Стар., 1870, I, 571 и 579; Сб. и. Р. И. О.,
LXII, 101.[↩] - Метрика, д. А., 71.[↩]
- Метрика, д. А., 71 об.[↩]
- д. А., 211.[↩]
- Долг. I, 57.[↩]
- Опред. Двор. Собр., д. А., 23.[↩]
- Опред. Двор. Собр., д. А., 23.[↩]
- Указ. д. А, 107.[↩]
- Л.-Р. I, 301; Сб. И. Р.И. О. LXII, 102 («1803»).[↩]
- ; Л.-Р. I, 301; Спис. погр. Тр.-Серг. Л., 7.[↩]


